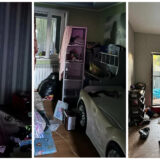«За нами должок остался. Вам еще причитается за зубы. За золотые коронки…»
Их было тринадцать – расстрелянных (как их убивали? пуля в лоб? в затылок? в висок? или автоматная очередь?) советской властью (где? в одном из подвалов Лубянки? в Бутово, на заброшенном полигоне?). Мы ничего этого не знаем. Ни слова от той власти, которая убивала…
Эта книга Эстер – передо мной. Я брожу по ней, как по выжженной пустыне, где только песок времени и Великая боль. За каждой строчкой – шок, мешающий дышать, страшная тишина одиночества, нечеловеческая подлость «друзей», переходящих при встрече на другую сторону улицы, чтоб случайно не поздороваться с «членом семьи врага народа»…
Их было тринадцать – расстрелянных (как их убивали? пуля в лоб? в затылок? в висок? или автоматная очередь?) советской властью (где? в одном из подвалов Лубянки? в Бутово, на заброшенном полигоне?).
Мы ничего этого не знаем. Тысячи страниц исследований, догадок, извращений, предположений, подтасованных протоколов допросов, – и ни слова от той власти, которая убивала. Миллионы ею уничтоженных – и ни слова покаяния, ни слова правды от самой власти, от убийц и их продолжателей – все шестьдесят лет – до нынешних дней.
Эти тринадцать хотели одного – работать на благо своей национальной культуры. А миллионы жертв режима – украинцы, русские, белорусы, прибалты, кавказцы – в чем виноваты были они?..
Читайте «свиток Эстер». В нем – правда нашей горькой истории, нашей надежды. 18 лет назад в своем гостеприимном доме в Ор-Иегуде, подписывая эту книгу, она сказала: «В ней – только часть правды. Всей – увы – не знает никто. И вряд ли узнает». И надписала книгу так, как не могла не надписать: «Вам, дорогой Леонид, книга о трудной моей жизни, но счастливой, потому что в ней был Перец Маркиш…».
Читайте погибших поэтов. Не можете на идиш, в оригинале – читайте в переводах. Но не забывайте о расстрелянной культуре. Всё, что нам от нее осталось, – помнить.
Леонид Школьник, «МЗ»

25 ноября 1955-го исполнилось 60 лет со дня рождения Маркиша. Я с детьми и несколько ближайших знакомых сидели за столом в нашей комнате на улице Горького. Симон, наш старший, поднял бокал вина:
– Я не знаю, пью я за здоровье отца – или за его память…
27 ноября меня вызвали в Военную коллегию Верховного суда. В приемной я встретилась с женами – или вдовами? – Бергельсона, Квитко, Гофштейна, Лозовского, Шимелиовича. Там же была старая, сгорбленная Лина Штерн – единственная в ту пору в СССР женщина-академик.
Меня принял генерал Борисоглебский. Стены голого и холодного, как прозекторская, кабинета украшали портреты в аляповатых казенных рамах: Ленин, Сталин.
– Вы, наверно, догадываетесь, зачем я пригласил вас… – сказал генерал.
– Нет, – сказала я, – я пришла выслушать вас.
– Могу сообщить вам, – сказал генерал, – что ваш муж реабилитирован.
– Где он?
– Ваш муж расстрелян врагами народа, – сказал генерал привычную для него фразу и придвинул ко мне стакан воды.
– Дайте мне дело, – сказала я. – Я хочу прочитать его дело.
– Ну, вы ведь не юрист! – развел руками генерал. – Вы не сумеете разобраться в деле!
– Я хочу видеть дело моего мужа, – повторила я.
– Это невозможно, – сказал генерал.
– Когда он погиб?
– Где-то в августе пятьдесят второго, – на миг задумался генерал.
– Я хочу знать точную дату.
– Но зачем вам это? – спросил генерал с некоторой досадой в голосе.
– Это нужно мне и моим детям. Где его могила?
– У него нет могилы.
– Я хочу знать точную дату гибели моего мужа, – настойчиво повторила я.
Тогда генерал позвонил по телефону, и на его звонок явился офицер, неся тоненькую папку, на которой было написано – «Маркиш, Перец Давидович».
– Двенадцатого августа 1952 года, – сказал генерал, заглянув в папку. – Может быть, у вас есть какие-нибудь просьбы, пожелания?
– Ускорьте пересмотр дела моего брата, Лазебникова Александра Ефимовича, – сказала я. – Он ни в чем невиновен, его реабилитация – только вопрос времени.
Через три дня мой брат был реабилитирован.
Я не знаю, кто судил Маркиша и его товарищей.
Я не знаю, кто еще сидел в зале суда по ту сторону «скамьи подсудимых».
Я не знаю, откуда известно людям о том, что говорил Маркиш в своем последнем слове.
По требованию прокурора все подсудимые были приговорены к 25 годам заключения.

Приговор, однако, показался кому-то «наверху» – скорее всего, Сталину – недостаточно суровым, и он был пересмотрен Военной коллегией Верховного суда. 18 июля эта инстанция приговорила обвиняемых по процессу Еврейского Антифашистского Комитета к расстрелу. Одна Лина Штерн получила 5 лет.
По сей день многие соучастники этого преступления на свободе.
Там, в приемной, Лина Штерн сказала мне:
– Зайдите ко мне, я кое-что вам расскажу.
Я пришла к ней с детьми – я понимала, что речь пойдет о Маркише. Лина Штерн была единственной, кто уцелел на процессе членов президиума еврейского антифашистского комитета. Она получила пять лет ссылки и выжила. Другие женщины, проходившие по процессу: Мирра Железнова – секретарь Ицика Фефера, журналистка Чайка Ватенберг, бывшая американская гражданка, работавшая переводчицей в Комитете, и член президиума Комитета, историк, фамилию которого я запамятовала, были расстреляны 12 августа.
Лина Штерн – крупный ученый-физиолог – приехала в Россию из Швейцарии в конце тридцатых годов. За ней пришли в начале 1949-го, сказали, что министр государственной безопасности приглашает ее на «собеседование».
Не успела Лина Штерн пересечь порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:
– Нам все известно! Признайтесь во всем! Вы – сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!
– Я впервые это слышу, – сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.
– Ах ты, старая блядь! – выкрикнул Абакумов.
– Так разговаривает министр с академиком… – горько покачав головой, сказала Лина Штерн.
До мая 1952 Лина Штерн не видела никого из наших – кроме Фефера. С ним у нее была очная ставка.
Фефер выглядел больным, жалким, раздавленным.
– Ну, признайтесь, Лина Соломоновна, – сказал Фефер. – Вы ведь состояли в нашей подпольной сионистской организации…
– О чем вы говорите?! – воскликнула Штерн. – Какой организации?
– Признайтесь, признайтесь! – твердил Фефер.
В мае 1952-го начался процесс при закрытых дверях. Вернее было бы назвать это карикатурой на процесс. Обвиняемых привозили в здание Верховного суда – там заседал военный трибунал. Защиты, конечно, не было.
Лина Штерн видела окровавленного Шимелиовича, полубезумного Зускина, немощного старика Бергельсона. Видела Маркиша.
Никто из обвиняемых не признал себя виновным – кроме одного: Фефера. Выступая с последним словом, бывший заместитель министра иностранных дел Лозовский называл Фефера «свидетель обвинения».
Лина Штерн сказала нам, что Маркиш выступил на процессе с яркой, взрывчатой речью. Его не прерывали – ведь слушали его только судьи и обвиняемые. А судьи были уверены, что никто никогда не узнает, о чем говорил Маркиш. В своем последнем слове он обвинил своих палачей и тех, кто направил их руку. Штерн не могла вспомнить речь Маркиша в деталях – она помнила только, что то была речь не обвиняемого, а обвинителя… Вскоре после встречи с нами Лина Штерн умерла, и мне неизвестно, с кем еще она делилась воспоминаниями о процессе. Однако впоследствии, уже после смерти Лины Штерн, я встречала немало людей, рассказывавших мне об обвинительной, обличительной речи Переца Маркиша. И никто из этих людей не смог объяснить мне толком, откуда они об этом узнали.

Перец Маркиш (слева), Давид Бергельсон, Изи Харик, Соломон Михоэлс. На заднем плане – редактор газеты «Дер Эмес» Моисей Литваков. Москва, 1935 год
После реабилитации убитых писателей, как правило, создавались комиссии по литературному наследству. Таких комиссий при Союзе писателей работало (или хотя бы значилось) уже немало. Не было никакого сомнения, что будет создана и маркишевская комиссия, и я не сомневалась, что секретарем ее назначат меня, вдову. Это значило, что, если я хочу увидеть новые издания книг Маркиша, я должна посвятить все свое время и все силы подготовке этих будущих изданий и «проталкиванию» их сквозь издательские частоколы. Поэтому я оставила служба в Обществе микробиологов и, не дожидаясь постановления Правления Союза писателей о создании комиссии, занялась архивом, черновой текстологической работой, планами будущих публикаций. Часто я приглашала уцелевших друзей Маркиша – для консультаций, советов и небольших совещаний. Во время одного из таких совещаний раздался телефонный звонок.
– Говорят из финансового отдела КГБ. За нами должок остался, – услышала я.
– Какой должок? Ведь мне вернули все деньги, которые я передавала мужу. (Выше я уже писала, что из денежных передач, которые у меня принимали в Лефортовской и Лубянской тюрьмах, Маркиш за все годы заключения не получил почти ни копейки).
– Нет, вам еще причитается за зубы.
– Какие зубы?
– За золотые коронки.
Я закричала не своим голосом. Друзья выбежали в коридор и подхватили меня – я была в обмороке. А телефонная трубка болталась и раскачивалась на шнуре, и голос счетовода смерти продолжал сотрясать мембрану сердитым бурчаньем. Кто-то схватил трубку и крикнул в нее:
– Будьте вы прокляты! Оставьте ее в покое!
Назавтра я поехала к Суркову. Выслушав мой рассказ, он пришел в ужас. Я же просила его только об одном – чтобы не было таких звонков моим более пожилым подругам по несчастью: ведь, например, Циля Бергельсон, которой уже перевалило за шестьдесят, могла бы заплатить инфарктом за беседу о коронках, вырванных подручными палача изо рта у ее убитого мужа.
Впоследствии, когда я слышала или читала о том, что не надо, дескать, ворошить беды прошлого, бередить старые раны, что лучше поставить крест и забыть я всегда говорила себе: «Зубы!».
Наконец, комиссия под председательством Петра Ивановича Чагина, бывшего директора Государственного издательства художественной литературы и друга Сергея Есенина («Шаганэ ты моя, Шаганэ!»), была сформирована.
От имени комиссии я обратилась ко многим крупным поэтам с просьбой принять участие в работе над переводами стихов Маркиша на русский язык. С благодарностью откликнулась на мое письмо Анна Ахматова. С полной откровенностью молодой Евтушенко сказал мне, что Маркиш слишком могуч и мощен для него, он не справится с переводом. Отважное и страшное письмо прислал Борис Пастернак в ответ на мое обращение:
31 Дек. 1955
Глубокоуважаемая Эстер Ефимовна!
Преклоняюсь перед непомерностью Вашего горя. Помимо своего художественного значения Маркиш был слишком необыкновенным явлением самой жизни, ее улыбкой, ее лучом, который прикосновением красоты, радующим знаком ложился всюду, куда он являлся.
Я очень хорошо помню его посещение, наш разговор и содержание подстрочника его замечательных стихов памяти Михоэлса. Но в противоположность мнению Вашего соредактора, Е. Пермяка, который пишет мне, что память у меня точнее фотографических снимков, я не только не помню своего перевода, но не помню даже, переводил ли я их. Думаю, что я только обещал и собирался, откуда и возникло это заблуждение.
Никто, ни Вы, ни кто-либо другой никогда не поверят, насколько не по-писательски устроен мой обиход, без книг, без переписки, без следов написанного, без авторского архива, с уничтожением писем и рукописей, с хранением только в душе и сердце самого необходимого.
Стихи надо перевести вновь (а может быть впервые). Это должен сделать кто-нибудь другой, Петровых или Мартынов, у нас немало превосходных переводчиков, из них одни не хуже, а другие – лучше меня.
Меня отовсюду теснят просьбами о переводах. Есть случаи, такие же высокие, достойные и страшные, как Ваш. Но если бы люди относились ко мне хорошо и внимательно, они должны были бы предостерегать и удерживать меня от переводов, а не поручать их мне. Пора мне заняться собой.
Ваш сын, очаровательный мальчик, говорил со мной о переводах, между прочим и о Шелли и Эдгаре По. Я все ему рассказал. Пусть он меня перед вами защитит.
А что наши годы наполнены были чудовищным и страшным и неисчислимыми примерами мученичества, я догадывался давно, и неспособность мириться с этим, давно, около сорока лет тому назад, определила мою жизнь и связала мне руки.
Не сердитесь на меня.
Ваш Б. Пастернак.
Стихотворение «Михоэлсу – вечный светильник» перевел на русский язык прекрасный поэт-переводчик Аркадий Штейнберг. Стихотворение это вызвало резкие возражения Николая Лесючевского – директора издательства «Советский писатель», где готовилась к изданию первая послереабилитационная книга стихов Маркиша. Лесючевский – одна из самых реакционных и мрачных фигур советской литературно-пропагандистской машины. Рассматривая макет книги Маркиша «Стихотворения и поэмы», он сказал мне, указывая на титульную фотографию:
– Что это вы мне фотографию убиенного подсовываете! И цвет обложки подобрали с умыслом – кроваво-красный! Нет, этого я не допущу… И «Михоэлсу – вечный светильник» – стихотворение националистическое. Кто это вам сказал, что его убили? Всем известно, что он попал под грузовик!
Понадобилось вмешательство Алексея Суркова для того, чтобы поставить на место фашиста Лесючевского. Книга вышла такой, какой мы хотели ее видеть. «Оттепель», однако, скоро миновала, и из всех последующих изданий Маркиша цензура вычеркивала стихотворение «Михоэлсу – вечный светильник». Что же касается Лесючевского, то он и впоследствии делал все, чтобы помешать изданиям Маркиша. В течение нескольких лет он оттягивал издание его романа «Поступь поколений», обвиняя автора в буржуазном национализме и сионизме. В этом деле он нашел себе немало сторонников, в их числе – автора дешевых детективных романчиков Тевекеляна, бывшего сотрудника МГБ и чуткую партийную ищейку. Оба клялись положить на стол свои партийные билеты, если роман Маркиша увидит свет. «Герой романа – ярый сионист! – кричали эти двое. – Он погибает, завернувшись в талес! Это религиозно-националистическая пропаганда!». Понадобилось специальное решение правления Союза писателей, чтобы роман был запущен в производство… Такие люди со стерилизованной совестью, как Лесючевский и Тевекелян, во многом определяли лицо московской литературы.
Вспоминается такой случай.
Я приехала по какому-то делу, связанному с литературными делами Маркиша, в Переделкино – на дачу Афанасия Салынского, одного из секретарей Союза писателей.
Салынский – наиболее честный человек среди всех секретарей – жил по соседству с Тевекеляном, на одном большом земельном участке. В один прекрасный день, по словам Салынского, он обнаружил забор, разгородивший участок пополам. Тевекелян, оказывается, заподозрил детей Салынского в том, что они обирали малину с тевекелянских кустов. Забор, естественно, был воздвигнут за счет Литфонда, одним из начальников коего являлся «толкаемый» по партийной линии бездарный как полено Тевекелян.
– Это – герой нашего времени, – посмеивался Салынский, – кто ему цены не знает… Проходимец, ничтожество! Руку ему нельзя подавать – вернее, не хотелось бы.
Через четверть часа мы с Салынским садились в его машину – он собирался подвезти меня к станции железной дороги. И вдруг на дороге показался Тевекелян. Грустно и, как мне кажется, немного виновато взглянув на меня, Салынский шагнул навстречу «могучей бездарности», сердечнейшим образом приветствовал его, пожал ему руку.

Перец Маркиш с женой Эстер и сыном Давидом. Черновицы, 1946
Предисловие к первому после реабилитации сборнику Маркиша написал наш проверенный друг, крупный русский писатель Борис Лавренев. Тогда, в 1956 году, еще можно было позволить себе написать и опубликовать:
«Маркиш был в расцвете своего мощного таланта и, наверное, создал бы еще более прекрасные произведения, но жизнь его оборвалась на подъеме. Он пал жертвой врагов, оклеветанный невинно. Враги отечества физически уничтожили замечательного поэта, но не смогли убить песню».
Спустя несколько лет, после окончания «оттепели», цензура вырубала даже самый легкий намек на то, каким трагическим образом закончил свою жизнь Перец Маркиш.
А в 1969 году я увидела то, что запрещено видеть «простому советскому человеку»: цензорскую правку в гранках последней в СССР книги Маркиша. Красный цензорский карандаш подчеркнул по всей книге встречающееся там неоднократно слово… «еврей». Редактору было предложено цензурой заменить это «запретное» слово такими словами, как «человек», «гражданин», «прохожий». Само же слово «еврей» было объявлено табу. Кроме того, цензор выбросил из состава книги стихотворения «Иерусалим», «Галилея», некоторые главы из поэмы «Война» – как еврейские националистические, и, конечно же, «Михоэлсу – вечный светильник».
По правде говоря, я больше всего беспокоилась за судьбу поэмы «Сорокалетний», переведенной на русский язык Давидом. Давид также не скрывал своих опасений по этому поводу. Мы рассчитывали только на полную темноту и дремучесть цензуры – и мы оказались правы в своих расчетах. Не поняв в сложной поэме ровным счетом ничего, цензура дала свое «добро» – и увидели свет такие стихи, как «Красные монахи»:
Не видно церквей, и псалмов не поют –
Но толпы монахов в долине снуют.
От каждого шага их гноем смердит.
Закона фитиль в их кадилах чадит.
Они появляются из темноты –
Глаза их косят, перекошены рты.
За каждый вопрос, за улыбку, за грусть –
Главу из закона прочтут наизусть.
Их плечи покаты, их лица – как мел.
Им злобными быть их устав повелел…
Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак
К Тебе я взойду и скажу Тебе так:
– Пусть ночь отступила от белых ворот –
Но красная темень курится, ползет.
Звезда – в рукаве, а за пазухой – ночь, –
И шепчут монахи – молчать им невмочь.
Они обещают убить темноту –
И так засыпают в холодном поту.
Любовью слепой свою веру любя,
В экстазе они оскопляют себя.
Они вездесущи. Вошедши во вкус,
Мстят людям за смех, а клопу – за укус.
Но день побеждает, но даль – весела –
И солнце сжигает монахов дотла.
Многое можно рассказать о всех тех треволнениях, что связаны были с выходом шести книг Маркиша после его реабилитации. Но человеческая атмосфера вокруг этих книг представляется мне более существенным фактором, чем переписка с издательствами. Эта атмосфера характеризуется той двойственностью, что так присуща современной советской интеллигенции. В частных встречах вещи, как правило, назывались своими именами: антисемитизм именовался антисемитизмом. Но в официальных беседах, связанных с работой над литературным наследием Маркиша, даже самые «смелые» интеллигенты не решались употребить это слово. А ведь именно оно определяло поведение Лесючевского, Тевекеляна и иже с ними.
Оставив службу и целиком уйдя в работу над литературным наследием Маркиша, я лишилась и тех скромных доходов, которые с грехом пополам помогали мне справиться с нуждой. Чтобы вернуться к прежним занятиям – переводу – и начать жить литературным трудом, нужна была поддержка «высоких особ». Как ни мало хотелось мне обращаться с просьбами к кому бы то ни было, пришлось все же снова идти в Союз писателей. На сей раз я отправилась к Борису Полевому, возглавлявшему Иностранную Комиссию. Я рассказала ему о своих трудностях и, в заключение, попросила прощения, что вынуждена его беспокоить.
– Что вы, что вы, – воскликнул Полевой, – это мы должны просить у вас прощения!
Он тут же написал директору Гослитиздата А. К. Котову, и я получила заказ на свой первый после ареста и гибели Маркиша перевод – часть дневников Ромэна Роллана, опубликованных позже в одном из последних томов собрания его сочинений. С тех пор и почти до конца моей жизни в СССР я занималась художественным переводом и перевела немало книг разных французских авторов. Разумеется, подав просьбу о выезде из Советского Союза, я подвела черту под своей переводческой карьерой: после этого подступ к издательствам или журналам был мне закрыт наглухо.
А с Полевым я очень скоро встретилась снова, но на сей раз – по его инициативе. В Москву приехал американский журналист Шошкес, который хотел встретиться с еврейской общественностью или с тем, что от нее осталось. Перед этой встречей Полевой пригласил меня к себе.
– Минувшего не вернуть, – сказал он. – Как это ни страшно, как ни печально, но мертвых не воскресишь. Теперь наша общая задача – не допустить того, чтобы наше общее горе стало оружием в руках наших общих врагов. Вами многие будут интересоваться, искать встречи с вами. Мне кажется, вы не должны говорить людям из-за границы всего, что вы знаете. Я бы считал, что, если вас будут спрашивать о судьбе Маркиша, лучше всего отвечать, что он умер от разрыва сердца.
– Нет, – сказала я, не задумываясь, – этого не будет. Ведь люди из-за границы могут быть настойчивы, любопытны или искренне расположены к Маркишу и его семье, и они захотят побывать на могиле умершего от разрыва сердца. Куда же мне тогда их повести? К фотографии на стене, над полкой, где я всегда ставлю вазу с цветами?
Полевой не настаивал и уступил…
МОИ ПЕРВЫЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ
Поздним осенним вечером 1955-го в нашей квартире раздался телефонный звонок.
Звонили из ЦК КПСС, сказали:
– Вы должны принять у себя генерального секретаря коммунистической партии Израиля – Микуниса. Он сейчас к вам приедет.
Я, откровенно говоря, испугалась. Шутка ли – иностранец, да к тому же израильтянин! Так ведь завтра можно снова оказаться в Казахстане.
Микунис приехал около двенадцати ночи и просидел у нас до пяти утра. Оказалось, что он родом из того же местечка, что и Маркиш – из Полонного – и хорошо помнит молодого Переца. Микунис, часто посещавший Москву, пытался разыскать нас еще в 1952-м, но ему сказали, что следы наши затерялись.
Беседа наша была довольно свободной, но недостаточно откровенной: спрашивать, как бы нам выбраться из СССР у коммуниста Микуниса – умного и симпатичного человека, я не решалась. О земле Израиля, о кибуцах и городах он рассказывал интересно и с любовью, зато, когда дело касалось политики – словно бы читал наизусть выдержки из передовиц «Правды».
Впоследствии Микунис бывал у нас всякий раз, как приезжал в Москву. От раза к разу он становился все более откровенным, все более, я бы сказала, печальным. Назревал разрыв с кремлевскими коммунистами, но не это, мне кажется, огорчало Микуниса: просто правда стала открываться ему слишком поздно.
Тем временем в СССР – в основном под нажимом западных либералов – была сделана попытка гальванизировать труп еврейской культуры. Возобновили концертную деятельность несколько коллективов еврейских певцов и чтецов, открылся под руководством Арона Вергелиса еврейский (на идиш) журнал «Советиш геймланд». Но не в силах певцов – даже таких прекрасных, как Нехама Лифшиц и Беньямин Хаятаускас – было возродить еврейскую культуру.
Их заслуга – к полной неожиданности коммунистической власти – выразилась совсем в ином: в возбуждении национального чувства российского задавленного еврейства. Люди, приходившие на еврейские концерты, бросали тем самым в лицо ассимиляторам свое «нет!». Евреи желали оставаться евреями в коммунистической империи, задумавшей осуществить «сплав» разнородных наций в единое безликое и послушное целое. А появление на еврейских концертах сотрудников израильского посольства было подобно добавке дрожжей в тесто: евреи воочию видели евреев, не только пожелавших стать свободными, но и добившихся своей свободы.
Наша встреча с «настоящими» израильтянами произошла за несколько лет до начала еврейских концертов – в 1959 году. Осенью этого года в московском Литературном музее состоялся торжественный вечер, посвященный творчеству Шолом-Алейхема. То был совсем особенный вечер – ведь вечера, посвященные творчеству еврейского писателя, не устраивались уже много лет. Мы были приглашены на вечер – Давиду предложили прочитать стихи о Шолом-Алейхеме.
За час до начала вечера перед музеем уже стояла густая толпа «безбилетников» – преимущественно еврейской молодежи и людей пожилого возраста. Небольшой зал музея не мог вместить всех желающих.
В первом ряду сидело пять-шесть израильтян, на лацканах их пиджаков светились значки с национальным гербом Израиля. Среди евреев немедленно прошел слух, что на вечер приехал сам Посол.
Я волновалась за Давида – как пройдет его выступление. Вот он уже объявлен председательствующим на вечере Ильей Эренбургом, вот он начинает читать.
В стихах явно слышались «ближневосточные нотки» – обращение к пальмам, к пустынному приморскому берегу. Я видела, как переглянулись израильтяне, как зааплодировали. И весь зал аплодировал – ведь Давид говорил в своих стихах о том, что теперь евреи могут больше не смеяться сквозь слезы, что они стали сильны.
После окончания вечера израильтяне прошли за кулисы, поздравили участников, потом попросили у Давида его стихи. Давид, конечно, отдал с радостью. А как только он спустился в зал, к нему подошел «почитатель в штатском» – сотрудник КГБ.
– Мне очень понравились ваши стихи, – сказал он. – Дайте мне их на память.
– У меня их нет, – сказал Давид.
– Как нет? Вы же только что читали их с листа!
– Я их потерял, – сказал Давид. – В толчее, знаете, немудрено.
– А что, в президиуме разве нет запасного экземпляра? Президиум, наверно, ознакомился со стихами прежде, чем вы их прочитали!
– Нет, – сказал Давид старательному стукачу. – Президиум не ознакомился. У меня был оригинал, я его потерял, а наизусть стихов не помню.
Даже в самый разгар так называемой «оттепели» идеологическая служба КГБ держала ухо востро и с «еврейских мероприятий» глаз не спускала. Тем более, если на них присутствовали израильские дипломаты. КГБ не доверял «своим» евреям, и правильно делал.
Много неприятностей советским «блюстителям политической нравственности» доставил юбилейный вечер Переца Маркиша, посвященный 65-летию со дня его рождения. Вечер состоялся в большом зале Клуба писателей и привлек великое множество людей. Вечером 25 ноября 1960 людские толпы запрудили улицу Герцена и приостановили движение транспорта. Для «установления порядка» была вызвана конная и пешая милиция.
Желающие попасть на вечер «безбилетники» рвались в здание Клуба. Зал был переполнен – люди устраивались по двое в креслах, стояли в проходах. Представителей израильского посольства администрация клуба сначала отказалась допустить в зал, ссылаясь на какие-то таинственные формальные обстоятельства. С большим трудом удалось мне провести израильтян в зал и устроить им места.
В фойе была экспонирована большая выставка, посвященная творчеству Маркиша. На вечере выступали Анна Ахматова, Павел Антокольский, Семен Кирсанов, Вильгельм Левик, другие поэты и переводчики. А в зале сидела преимущественно молодежь – и это радовало и внушало надежды.
«Гвоздем» вечера явилось, безусловно, письмо, посланное Ильей Эренбургом, который из-за болезни не смог выступить на вечере. Вот текст его письма, оригинал которого хранится в моем архиве:
«Мне горько, что в этот вечер я не могу быть с друзьями, которые соберутся, чтобы преклониться перед неизвестной могилой известного поэта Переца Маркиша. Мне хотелось бы припомнить его молодым и непримиримым в Киеве, где горе и надежды заволакивали туманом его прекрасное лицо и сужали зрачки его мечтательных глаз. Я хотел бы также восстановить мои встречи с ним в Париже, где он вдохновенно говорил о революции и о поэзии, о Маяковском и о Гийоме Аполлинере, о древних легендах хасидов и о начале новой эры. Я хотел бы рассказать и о последней встрече, о последней короткой беседе, о последнем рукопожатии на улице Воровского, в тех кулуарах, где многие из нас тоже глазами прощались друг с другом. Я хотел бы сказать о прекрасном поэте. Но сейчас всего этого не выскажешь и я надеюсь, что мне удастся это сделать за рабочим столом.
Наверно на вечере памяти Переца Маркиша будут много говорить о его живых стихах. Мне хочется сказать о том, что меня связало с убитым поэтом – кроме преданности искусству, кроме давних дружеских встреч. Пожалуй, лучше всего это высказал польский поэт Юлиан Тувим, стихи которого Перец Маркиш любил. В 1944 году Тувим объяснял, почему он с гордостью называет себя польским евреем: «Из за крови. Стало быть, расизм? Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах и та, что течет из жил. Первая – это сок тела, ее исследование – дело физиолога…
Другая кровь это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать преимущество своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей. Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение – кровавое, горячее, мученическое братство с евреями»… Перец Маркиш знал эти слова. Он провел над ними такие же часы горя и гордости, как многие другие. Потом не стало Переца Маркиша… Что может быть бессмысленнее такой смерти при всем ее глубоком, трагическом смысле?! Остались стихи, они звенят. Остался образ чистого, смелого и доброго человека. Он многих приподымает, согревает в минуты одиночества, молодит на склоне жизни. Да, стоило так писать и так прожить жизнь.
И. Эренбург
Пять лет спустя, в 1965-м, состоялся еще вечер памяти Маркиша. На сей раз он проводился там, где родился поэт – в украинском местечке Полонное. Устройство вечера «знатного земляка» было сопряжено с рядом трудностей подчас анекдотического характера.
Примерно за год до вечера я приехала в Полонное – познакомиться с местами, где родился Маркиш. Полончане – а евреев среди них осталось после войны немного – относили Маркиша к разряду «знатных земляков». Однако, когда я заговорила в Горсовете о каких-либо мемориальных мероприятиях, городское начальство сильно напугалось.
Увековечить в каких-либо формах память еврейского поэта – это было бы непозволительным риском для городского начальства. Поэтому председатель горсовета Майстерчук согласился предпринять что-либо, например, отвести уголок в городском музее – только в том случае, если последует недвусмысленное указание от киевского начальства.
Я поехала в Киев. Киевское начальство вело себя более «интеллигентно», чем неотесанный, безграмотный Майстерчук. Киевляне в принципе согласились помочь организовать юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Маркиша. Об этом было сообщено областным партийным руководителям в город Хмельницкий, а те, в свою очередь, поставили в известность Майстерчука. Теперь Маистерчук мог действовать, не беря на себя никакой ответственности.
В конце ноября 1965 я с детьми приехала в Полонное. «Безответственный» Майстерчук во главе своей горсоветовской команды торжественно встречал нас на вокзале. Нас отвезли в гостиницу, а оттуда – обедать в городское кафе. Стол был сервирован в отдельной комнате – «кабинете», и посетители кафе, сквозь зал которого мы прошли, пялили на нас глаза: в «кабинете» кормилось областное и республиканское начальство, и отпирали его не часто. Мы попросили, чтобы нас обслужили в общем зале, и это было сделано, хотя и неохотно. На свеженькой, только что отпечатанной карточке меню значилось: «золотой бульон», «жаркое из куриных пупков», «фаршированная рыба». Я увидела, как у Давида, хорошо знавшего страну, глаза буквально полезли на лоб: в заурядном кафе городка типа Полонного такого изобилия продуктов быть не могло.
– Сколько стоит бульон? – спросил Давид у официанта.
– 15 копеек, – не моргнув, ответил официант.
– А жаркое из пупков?
– 20 копеек!
Это выглядело уже полной фантастикой – хоть переезжай в Полонное навсегда: подобных цен, столь низких, не существует в природе.
Спустя день выяснилось – под большим секретом – что «специальное меню» и «специальные цены» введены на те три дня, что нам предстояло провести в Полонном. После нашего отъезда повеселевшие было полончане вновь перешли на ржавые щи и осклизлые макароны.
Выяснилось и другое: откуда горсовет раздобыл деньги на такое приятное облегчение жизни своих граждан. Оказывается, за несколько дней до вечера Маркиша Майстерчук собрал в горсовете около десятка «граждан еврейской национальности» – активистов предстоящего торжества. Произошел такой примерно разговор с каждым из приглашенных в отдельности:
МАЙСТЕРЧУК: Хочешь, чтобы юбилей Маркиша прошел показательным образом?
ЕВРЕЙ: Конечно, хочу.
М: А деньги у тебя для этого есть?
Е: Денег нет…
М: Тогда пиши заявление: «Прошу выдать мне безвозвратную денежную ссуду в размере пятисот рублей». Написал? Давай, я подпишу.
Деньги, организованные таким образом и полученные евреями, тут же возвращались в городскую казну и использовались на «культурные мероприятия» и «специальное меню по специальным ценам».
В итоге торжеств было оглашено решение – присвоить одной из улиц Полонного имя Переца Маркиша. Мы, естественно, захотели познакомиться с этой улицей – но добились такой экскурсии с большим трудом. «Улица» оказалась пустырем, планируемым к застройке. Мы были, естественно, подавлены, а сладкие речи Майстерчука о прекрасном архитектурном будущем пустыря нас не утешали.
Тогда писатели, приехавшие на юбилей из Киева, сели за телефон и принялись звонить в Хмельницкий и Киев. После продолжительных телефонных дебатов решение Горсовета было изменено: именем Переца Маркиша назвали застроенную набережную. Я сомневаюсь в том, что набережная носит это имя и сейчас – после нашего отъезда из СССР.
С этим юбилеем связано у меня еще одно воспоминание. Я пришла к главному редактору «Литературной газеты» Александру Чаковскому, еврею- антисемиту, за жирную похлебку продавшему свое национальное достоинство и гражданскую совесть.
– Я хочу предложить вам напечатать главу из романа Маркиша.
– Почему именно в «Литературной газете»? – досадливо спросил Чаковский. – У национальных писателей есть свой орган – журнал «Дружба народов»… (этот журнал кстати сказать, возглавлял в то время один из самых ярых, патологических российских антисемитов – Василий Смирнов, утверждавший, что Солженицын «такой плохой», потому что он еврей и настоящая его фамилия – Солженицер).
– А почему же в «Литературной газете» печатаются национальные писатели Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов и многие другие? – спросила я.
– Я вам откровенно скажу, – сказал тогда Чаковский. – Я не люблю евреев…
– И я вам скажу откровенно, – сказала я. – Евреи вас тоже не любят.
На том мы и расстались с «видным русским писателем и общественным деятелем» Александром Чаковским, ехавшим в эвакуацию в Ташкент на третьей полке нашего железнодорожного купе.
А вечер в Центральном доме литераторов в Москве, в декабре 1965 года стал, как мне кажется, важным событием не только в нашей семейной истории. Не в том дело, что, как и пять лет назад, зал был набит битком и за входными дверями писательского клуба, охранявшимся милицией, остались сотни не сумевших пройти внутрь. Главный смысл этого вечера был в том, что в каждом выступлении звучали: «Убили! Убили! Убили!». И этот призыв помнить, отринуть соблазн забвения, не примириться и не прощать, а стало быть – не «объединяться в борьбе с общим врагом», как хотелось бы Полевому, – этот призыв был страшен литературным властям, сидевшим в президиуме, и находил необыкновенно, необычайно чуткий отклик в зале.
В этот вечер мы были все вместе, вся наша семья: Симон, оставивший редакторскую службу в Гослитиздате и принятый в Союз писателей (он переводил с древних и новых языков, писал об античной литературе и о Возрождении), Давид, пошедший по отцовскому пути, пытающий свои силы и в поэзии, и в прозе, и в журналистике, Ляля с мужем Николаем, уже успевшие приобрести доброе имя среди украинских скульпторов (Ляля – в области малой пластики, как фарфорист и керамист, Коля – в монументальной скульптуре), мой брат Шура, вернувшийся после 18-летнего перерыва к профессии журналиста. В зале были и моя мама, и наши с Маркишем внук и внучка, уже взрослые, двенадцатилетние, Лена Хохлова.
А я с обоими сыновьями сидела в президиуме. Рядом с нами сидел Николай Тихонов, талантливый некогда поэт, ставший столпом литературного режима и первым в ряду «борцов» за чистоту русской культуры против «не помнящих родства». (Я писала выше о его статье против Нусинова в первом номере газеты «Культура и жизнь», порожденной ждановским погромом 1946 года.) Конечно, будь моя воля, я не села бы с ним за один стол, но воля была не моя. Зато, слушая слова боли и укоризны, упорства и непрощения, слетавшие с трибуны, я думала, я чувствовала, что слова эти нацелены и брошены в эту красную физиономию под седой шевелюрой. Вот что говорил мой старший сын (у меня сохранилась стенограмма всего вечера):
«Нынешний вечер не только юбилейный – это вечер памяти поэта. Слово о памяти я и хочу сказать.
Перефразируя Мандельштама, скажем: память – наше мучение и наше богатство. Человеку свойственно желание забыть – трусливо спрятаться от воспоминаний, зажмуриться, зажать уши, прикинуться перед миром и перед собой, будто прошлого не было. Но еще страшнее, еще мучительнее, когда воспоминания тускнеют и отступают, и уже не слышишь самого дорогого на свете голоса, не слышишь горького запаха редеющих завитков на макушке, не видишь рук с крупными, ребристыми ногтями, и чувствуешь себя изменником, предателем. Нужно собрать все силы, все мужество и вернуть прошедшее, чего бы это ни стоило. Одиссей возвращал теням преисподней голос и подобие жизни, напоив их овечьею кровью. Но не кровью черной овцы, а собственной кровью и болью оживляем мы наши воспоминания.
Последние годы память все настоятельнее вступает в свои права и гонит прочь предательское забвение и бесчестную полупамять, такую же подлую, как полуправда. Это происходит повсюду, во всех странах, во всех уголках жизни и искусства. Пусть наш вечер будет еще одним взносом и долею в этом великом Исчезнувшим бесследно – сгоревшим, утонувшим в море, пропавшим в пустыне, греки ставили на родине кенотафы – пустые гробницы. У Переца Маркиша нет могилы и нет памятника. Но ему не нужен кенотаф, потому что он не исчез без следа, как хотели и надеялись те, кто его убил. И памятник его – не книги, старые и новые, но единственно и только – наша память, справедливая и полная. Память о его красоте, таланте, бурной и пестрой жизни, прозрениях и заблуждениях и о страшном его конце. Она не может быть вечной, но долгой она будет».
Как-то вернувшись домой под вечер, я была встречена соседкой:
– Тут к вам иностранка какая-то приходила, записку оставила…
Советский человек всегда распознает иностранца, даже если он и говорит по-русски без акцента. Разговор с иностранцем – дело рискованное, могущее повлечь за собой всяческие неприятности. Визит же иностранца в частный дом – это уже нечто из ряда вон выходящее! Десятилетия шпиономании сделали свое дело: в каждом иностранце советский гражданин склонен видеть шпиона и диверсанта. Те же, кто поумней и поразвитей, те, кто понимают, что не обязательно американец должен носить в жилетном кармане пистолет, а итальянка – кинжал и шпионский фотоаппарат в сумочке – те просто, во избежание неприятностей, иностранцев избегают. Наша соседка относилась ко второй категории советских граждан. Она была уверена, что встречи с иностранными гражданами доведут меня рано или поздно до большой беды.
В записке, оставленной мне, значилось, что внезапная посетительница – жена друга молодости Переца Маркиша, еврейского писателя Ойзера Варшавского, что зовут ее Мария Варшавская, что она парижанка, в Москве с туристской группой и нынче же вечером покидает Москву. В записке был указан номер телефона отеля, где остановилась Мария.
Я позвонила ей, сказала, что сейчас же приеду. Захватив какой-то московский сувенир, я достала из архива несколько копий фотографий, на которых Маркиш был изображен с Варшавским: я не знала, есть ли такие у Ойзера и полагала, что он будет рад получить такой подарок. И через полчаса я стучалась в дверь ее гостиничного номера.
Мария отворила мне. Она держала в руках фотографии… те же самые, что я привезла ей. Мария Варшавская оказалась прекрасным человеком, настоящим другом. Многие годы мы поддерживали дружескую связь, и она неизменно ободряла меня в самые трудные моменты моей жизни – после того, как началась наша борьба за выезд из СССР. Тогда же – в эту первую нашу встречу – Мария рассказала мне о судьбе Ойзера: он был схвачен гитлеровцами и погиб в Освенциме.
Мои деловые и дружеские связи с зарубежными западными центрами и издательствами, проявляющими интерес к творчеству Переца Маркиша, росли. Я регулярно получала еврейскую прессу – «левую», конечно: «правая» изымалась почтовой цензурой – в основном из США, Франции. Маркиш печатался в США, Аргентине, Израиле, Франции. У меня завязалась удивительно интересная, глубокая переписка с одним из руководителей ИКУФа4 Нахманом Майзелем – виднейшим исследователем еврейской литературы на идиш. Эта переписка, насчитывающая около сотни писем, продолжалась до самой смерти Майзеля и касалась многих аспектов творчества Маркиша. Большим событием был для нас приезд туристки из Израиля – литератора и критика Гитл Майзель, родной сестры Нахмана. С Гитл мы могли говорить откровенно, могли делиться нашими планами и надеждами. От этой женщины высокой души и серьезных литературных знаний мы получили ценнейшую информацию о состоянии идишистской культуры в Израиле.
Контакты с израильтянами, с людьми Запада помогли нам определить наше будущее в реальных чертах. Вопрос «Ехать ли в Израиль» не ставился нами. Существовал другой вопрос: «Как нам вырваться в Израиль?» С каждым месяцем этот вопрос становился все острей, все мучительней.
И тут-то грянула Шестидневная война.
______________________
Из книги воспоминаний Эстер Маркиш «Столь долгое возвращение…», Тель-Авив, 1989, тираж 500 экз.
(Печатается с сокращениями)
Источник: «МЗ»
Tweet