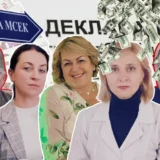Будни российской деревни: преступление и наказание
Вообще-то, деревня умеет избавляться от уродов. Обычно даже угрозы «спалить» достаточно, чтобы вор, которого не смогли перевоспитать побоями, переехал в другое место. Почему же община терпела соседство этого упыря?
Один мужик из нашей деревни умер в районном ИВС. Он провел там несколько недель в ожидании суда, и все это время деревня пребывала в большом напряжении – выйдет или не выйдет. А когда он не вышел, деревня перевела дух. Он получил свое наказание не по закону, а по совести, как ее понимают в нашей местности.
Смерть эта не была случайной или естественной, хотя при всеобщем согласии ее легко выдали за смерть от старости. Мужику было под семьдесят, он крепко закладывал и был натуральным упырем. Когда он проходил по улице, соседи здоровались с ним, но только потому, что в деревне не знают, что можно не здороваться.
Он никогда не сидел на лавочке у своих ворот, а это говорит о многом. В первые два года своей деревенской жизни мои родители тоже не сидели перед воротами, но им было простительно – они приехали из Москвы, к тому же еще не жили здесь круглый год, зимовать уезжали обратно и не знали всех местных приличий. А в какой-то момент дядька, которого к ним в гости привел общий приятель, прямо при знакомстве сказал: «А я дывлюсь – шо за люды поганые, на лавочку не выходят», – и засмеялся.
Засмеялся, потому что знал, конечно, что его привели к хорошим людям. Но, тем не менее, лавочка – это не шутки. Если хотя бы несколько раз в неделю ты не сидишь перед своей калиткой или на лавочке соседа, значит, ты боишься показаться людям, ты – из стыда или из презрения – не готов с ними общаться, или они не готовы общаться с тобой.
Это значит, что ты вор или еще что похуже. Это значит, что если с тобой случилась беда, а ты в доме один и не можешь позвать на помощь, никто не заглянет к тебе, чтобы узнать, почему ты вдруг перестал выходить на лавочку. Тебе нет дела до других – ну и другим нет до тебя дела. И никакие мобильные телефоны не могут извести этого деревенского ритуала – ни у кого и не будет твоего номера, если человек ты «поганый».
Так вот тот упырь, который скончался в ИВС, на лавочку не выходил никогда. Зато он время от времени наведывался к одиноким старухам, чтобы потребовать денег на водку – «а не дашь – не будет тебе места ни на земле, ни на небе». Старухи ужасно его боялись, потому что знали, что он имеет в виду. Когда-то давно, еще при советской власти, он отсидел восемь лет за убийство. И это было не обычное убийство.
Обычное убийство в нашей деревне (как, думаю, и в большинстве деревень) – это непредвиденный исход ссоры между приблизительно равными соперниками, часто собутыльниками. Или это зашедшая слишком далеко расправа с пойманным вором, такое часто случалось в голодные времена в начале 90-х.
Летом, когда всходили огороды, а из соседних районов приходили промышлять цыгане, мужики устраивали ночные засады, поднимали вора за руки-ноги и хлопали об землю, как простыню. Но такая расправа далеко не всегда кончалась гибелью наказанного, да и не практикуется она уже лет 15 – жить стало лучше, биться за урожай насмерть никто не станет, поколотят – и дело с концом.
Деревня у нас большая, под двести дворов, и среди ее жителей не один и не два человека когда-то отсидели за убийство по неосторожности или за причинение тяжких, повлекших за собой смерть. Они вернулись, живут, как все, и так же, как соседи, выходят на лавочку. Они не обижают старух и не замышляют убийств (как не замышляли их и раньше). Здесь не бывает такого, чтобы кто-то решил – пойду прикончу – и так и сделал.
А тот упырь так сделал, или почти так. Он пришел к бабке в самом решительном настроении и потребовал три рубля на водку. Бабка отказала, после чего он долго избивал ее и издевался как только мог, а потом снял с ворот засов и закончил дело. Поэтому когда, вернувшись с зоны, он наведывался к старухам со своими глухими угрозами, те, понятно, превращались в тварей дрожащих перед тем, кто свое право доказал и «высидел».
Вообще-то, деревня умеет избавляться от уродов. Обычно даже угрозы «спалить» достаточно, чтобы вор, которого не смогли перевоспитать побоями, переехал в другое место. Почему же община терпела соседство этого упыря? Причин было несколько. Во-первых, деньги у старух он брал редко, даже не каждый месяц, а буквально угрожал им еще реже – не было нужды.
Так что у медленно зреющего общинного гнева просто не было достаточно почвы, все-таки изгнание – это крайняя мера, когда терпение уже лопнуло и восстановлению не подлежит. Во-вторых, случай-то был невиданный, люди просто не понимали, как человек, оказавшийся способным на такое злодейство и, очевидно, ни в чем не раскаивающийся, может отреагировать на ультиматум или агрессию. Как от него избавиться – убить, чтоб уж наверняка? Но так здесь вопросы не решают. Вот он и жил среди людей, изредка напоминая им, кто он такой, но не выводя их из себя окончательно.
А через несколько лет такого сосуществования в деревне совершилось еще одно дикое преступление. Ранней зимой бесследно исчез мужик по кличке Муха (кличку произвели от выражения «мухи не обидит», настолько он был незлобив и дружелюбен). Исчез – и все. А в деревне так не бывает. Случалось, что кто-то отправился на заработки в город, а там сделался бомжом, но и такой рано или поздно попадал в милицию, и вскоре в деревне становилась известна его судьба.
К тому же все заранее знали, что человек далеко уезжает – такие события непременно обсуждаются на лавочках. А Муха никуда не собирался, и его судьба стала известна только весной, когда начал сходить снег, – собаки разрыли то, что от него осталось, за огородами. Не за одним огородом, а за несколькими.
Жуть, накатившая на жителей деревни, была настолько созвучна чувству, которое они испытали после того давнего убийства старухи, что версия у них могла родиться только одна. И у участкового тоже была одна версия. И у милицейского наряда, и у следователя из райцентра (до которого от нашей деревни три километра, и где, конечно, слыхали о нашем упыре) – у всех была одна-единственная версия. Упыря отвезли в ИВС, даже не задавая ему никаких вопросов.
Как раз в это время мои родители вернулись после московской зимовки. Им рассказали, что произошло, а на недоумение моего отца – как же так взяли именно этого злодея, если никаких улик против него не было – отвечали: «Билш нИкому». Ровно тем же тоном, каким отвечали ему, когда навещавший отца друг из Москвы пытался купить гуся в октябре, – «рано ще». «Да что значит «рано», объясни ты мне? Вот деньги, вон твой гусь». – «Ну, дядько Сашко, рано ще – понялы чи ни?».
Один из наших друзей, Колька-мент, который и в наряды выезжал, и охранял ИВС, рассказал, что было с нашим страшным соседом после ареста. Его посадили в самую холодную, сырую камеру и несколько недель почти не кормили. Этого хватило, чтобы он не дожил до суда. «Так нашли на него что-нибудь?» – не унимался отец. «Нет, не нашли, – отвечал Колька. – Но больше некому». В деревне у нас говорят на суржике, а в райцентре по-русски, но понимают друг друга с полуслова.
Автор: Геннадий Князев, Россия, Русский журнал
Tweet