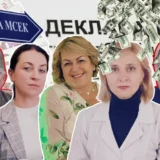Елец – всем ворам отец. Как воры сменили папу и сами себя зауважали
Нынче и в преступном мире, и в представлении простых российских обывателей закрепилось убеждение в том, что для уголовника мама – Одесса, а папа – Ростов. Присловье это живет даже несмотря на то, что по уровню криминализации Ростов-на-Дону давно уже не является лидером, а Одесса для России – и вовсе отрезанный ломоть, отошедший Украине.
Но в воровском мире существует и другая «родословная», менее известная обычному россиянину. Она гласит: «Елец – всем ворам отец». Но что такого замечательного для «элиты» преступного мира таит маленький городок, расположенный в 80 километрах от Липецка? Елец и нынче-то насчитывает всего около 110 тысяч жителей, а в былые времена народу было вовсе – кот наплакал. Каким же медом он для воров мазанный?
Елец – город старинный. Впервые его упоминает Никоновская летопись в 1146 году: «Князь же Святослав Ольгович иде в Рязань, и быв во Мченске, и в Туле и в Дубке на Дону и в Ельце, и в Пронске…». Эту дату принято считать годом основания города. Однако, по мнению большинства историков, цитированная запись является поздней вставкой XVI века. Первым же достоверным письменным упоминанием Ельца можно считать запись митрополита Киевского Пимена о встрече с князем Елецким в 1389 году.
Но более поздние летописи, однако, задним числом повествуют о многочисленных половецких набегах на Елец начиная с 1152 года. Если верить этим рассказам, город не раз сгорал дотла, жители гибли в битвах с врагом или уводились в полон. В 1238 году отстроенный с превеликим трудом городок разорило войско хана Батыя. Затем в 1283 году непокорные ельчане разгромили слободку сборщика дани Ахмета Темира и забрали его имущество. Огорченный до невозможности баскак вернулся с ордынцами и снова оставил от города пепел. Позже Елец еще не раз восстанавливали и палили. В 1357 году митрополит Московский Алексей попытался прервать эту добрую традицию: восстановленный по его указанию Елец обнесли дубовой крепостной стеной и вырыли вокруг крепости глубокий ров. Напрасные труды: в 1380 году хан Мамай сжигает елецкий кремль. Возмущенные ельчане выступают против ордынца в Куликовской битве. Хотя зловредные историки оспаривают факт участия ельчан в этом сражении.
Но как ни крути, а в древнюю пору Елец был пограничным городом, охранявшим рубежи Российского государства, и посему часто подвергался нападению и разорению. В 1395 году над ним жестоко поглумился грозный Тамерлан во время погони за ханом Золотой Орды Тохтамышем. С землей не сровнял, однако повырубил окрест дремучие леса, чтобы облегчить путь своему войску. А в 1414 году, как сообщает Патриаршая летопись, «…приидоша татарове многи… и много зла сотвориша, и град Елец взяша, и елецкого князя убиша». Что за «татарове» и откель они «приидоша», покрыто мраком. Одначе же с тех пор почти две сотни лет о граде Ельце никто слыхом не слыхивал.
Короче, как в сказке Алексея Толстого «Приключения Буратино»: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро… Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием: " Тридцать три подзатыльника". Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия…»
Я к тому, что до конца XVI века искать следы «славного воровского прошлого» в истории города Ельца бессмысленно. Как говорится, не тот жанр.
Скаска о Стеньке
В 1591 году царь Федор Иоаннович сызнова повелел возвести Елецкую крепость, для чего из городов Южной Руси согнали стрельцов, казаков и детей боярских – то есть народ в основном служивый, вольный, строптивый и буйный. Гремучая смесь. Аукнулась такая беспечность и недальновидность государева в самом скором времени.
Но для начала – немного исторической лингвистики. В те далекие времена словом «вор» на Руси обзывали не высшую касту уголовного мира и даже не обычных «крадунов». Банальные разбойники и прочая паршивая уголовщина назывались «татями». Помните присказку – «аки тать в нощи»? Вот это – о них. «Ворами» же именовали политических преступников – мятежников, предателей, а также тех, кто «выступал против порядка правления», избирая объектами преступлений государственные органы и чиновников. К таковым ворам можно отнести Пугачева, Разина, Болотникова и других героических живодеров. Через многая лета обе эти категории большевики подведут под 58-ю «политическую» и 59-ю «бандитскую» статьи. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года только они две были «расстрельными». А в период Смуты, Семибоярщины и прочих кровавых забав «воров» предпочитали все больше четвертовать да сажать на кол. Ну, это уже – вопрос вкуса…
Обратимся к «Списку с скаски, какова сказана у казни вору и богоотступнику и изменнику Стеньке Разину», где предводитель казачьего восстания постоянно именуется «вором», а его преступления – «воровством», хотя речь идет о грабежах и убийствах. «Скаска» – это приговор, который написан в форме обличительной речи, обращенной к обвиняемому. Подробно перечисляются злодеяния Стеньки, причем рассказ обильно пересыпается определениями «вор», «воровство», «воровской», «своровали», под которыми разумеются смута, государственное преступление, измена:
«Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!
В прошлом 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады [ Насад – речное плоскодонное беспалубное судно. ], и иных многих промышленных людей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил…
Ты ж, вор Стенька, пришед под Царицын, говорил царицынским жителям и вместил воровскую лесть, бутто их, царицынских жителей, ратные великого государя люди идут сечь. А те ратные люди посланы были на Царицын им же на оборону. И царицынские жители по твоей прелестисворовали и город тебе здали…
И послал в разные города и места свою братью воров с воровскими прелестными письмами, и писал в воровских письмах, бутто сын великого государя нашего благоверный государь наш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с тобой идет…»
Или вспомните у Пушкина в «Капитанской дочке» разговор коменданта Белогорской крепости капитана Миронова с Емельяном Пугачевым: «Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: “Как ты смел противиться мне, своему государю?” Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: “Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!”»
Вот и елецкая поговорка первоначально подразумевала «вора» не в нынешнем, а в том давнем, старинном смысле! Ко времени ее возникновения население славного города уже здорово отличалось от прежних, зашуганных судьбой и кочевниками елецких обывателей. Что называется, замес покруче, норов позлее. Да и соседи им под стать подобрались. И то сказать: поднялись на одних дрожжах… Но об этом – следующая глава.
Северская земля, смутная и воровская
Во времена грозного царя Иоанна Васильевича (1530–1584), когда Московское царство набирало силу и расширялось, южные рубежи Московии именовали Диким Полем: они постоянно подвергались набегам крымских татар да ногайцев и почти опустели. Наряду с басурманами врагами и разбойниками числили и черкасов – запорожских казаков, которые совершали налеты на Московское царство. Так что немногие аборигены этих мест, вынужденные противостоять разноплеменным башибузукам, отличались особой закалкой, диким характером и редкостной отвагой.
Вся эта катавасия изрядно поднадоела царю Ивану, и он решил укрепить «подбрюшье» своего государства, заодно отодвигая его границы в южном направлении. Грозный повелел создать так называемую «засечную черту» – систему оборонительных сооружений против кочевников. Она получила свое название от засек – заграждений из поваленных крест-накрест толстых стволов деревьев, направленных заостренными вершинами в сторону противника. В засечную черту входили также валы, рвы, частоколы и естественные преграды на местности. Но все эти фортификации гроша не стоили без надежных пограничных гарнизонов. Начинают укрепляться уже существующие города Мценск, Новосиль, поднимаются из небытия разрушенные когда-то Кромы, Ливны, Елец, строится новый Орел…
На юг Московского царства хлынули переселенцы – преимущественно служилые да военные, бесшабашные сорвиголовы. Помимо этого, великий государь Иван IV повелел ссылать в «окраинные города» Северского края «кромешников, мятежников, бунтарей», то есть «политически неблагонадежных». Здесь же находили пристанище беглые холопы, разбойники, приговоренные к смерти душегубцы. Компания подобралась – мама, не горюй, отборная маргинальная публика. А иные и не выдержали бы диких набегов, постоянных стычек, схваток да побоищ.
Значительную часть южных окраин занимала также Комарицкая (Камаринская) волость. Принадлежала она непосредственно царю, управлялась Дворцовым приказом, местный люд фактически не ведал крепостного ярма. Вольные, независимые крестьяне на черноземных землях жили в достатке и подать платили исправно. Хотя не все так просто. Например, дореволюционный историк Орловщины Тимофей Афанасьевич Мартемьянов писал:«Камаринщина, доставшаяся Москве от Литвы лишь в 1503 г., <…> с тех пор до конца своей украинской истории представляла собою один из опаснейших уголков Украины; ей частенько случалось испытывать на себе и опустошительные вторжения литовцев и поляков, <…> и губительные татарские набеги. Камаринцам той эпохи, поэтому, жилось вообще не сладко; их нередко то грабили, то полонили, то прямо истребляли “огнем и мечем”».
И все же, пока был жив Грозный, он довольно крепко держал державу в кулаке. Но царь Иван отошел в мир иной, затем в 1598 году умирает его старший сын Федор Иоаннович, линия Рюриковичей прерывается, Земский собор избирает царем Бориса Годунова – шурина Федора. И начинается Великая Смута…
Формальным поводом стала смерть царевича Дмитрия Иоанновича – младшего сына Ивана Грозного от его жены Марии Нагой. Дмитрий, строго говоря, царевичем не являлся. Правда, Иван Васильевич обвенчался с Марией Федоровной, однако этот брак был уже восьмым по счету и с точки зрения православной церкви не мог считаться законным (для таких венчаний у Грозного имелся «ручной» протопоп Никита, служивший прежде в опричниках). Так что Дмитрия с матерью по смерти государя регентский совет отправил в Углич, где царский сын числился удельным угличским князем.
15 мая 1591 года во время игры в «тычку» (метание ножика) у восьмилетнего царевича случился приступ эпилепсии («черной немочи»), и он, по рассказам очевидцев, наткнулся на ножик, который вошел ему в шею. Однако Мария Нагая и ее брат Михаил заявили, что это – убийство, совершенное по приказу из Москвы. Предполагаемых убийц народ разорвал на куски (хотя в момент гибели царевича они находились в другом месте). Самоуправцев власть жестоко покарала. А на царский трон взошел брат жены Федора Иоанновича, Ирины? – татарин Борис Годунов.
Молва тут же связала гибель Дмитрия с именем нового государя: якобы тот устранил возможного соперника. Многие историки между тем считают Годунова непричастным к убийству. Дмитрий по всем раскладам считался незаконнорожденным и не мог претендовать на трон. Хотя татарин делал все, чтобы свести риски до минимума: добился удаления вдовствующей царицы с сыном в захолустный Углич, убедил царя Федора не поминать Дмитрия в церквах при перечислении царских родственников. Но и малолетний царевич Годунова ненавидел. Германский ландскнехт Конрад Буссов вспоминал, как шестилетний Димитрий отсек голову снеговику, названному Борисом Годуновым…
Однако не будем копаться в этом темном детективе. Главное в другом. Через некоторое время убийством царевича Дмитрия воспользовались исконные враги Московии – поляки. В 1603 году в Польше объявляется авантюрист, который выдает себя за чудесно спасшегося Дмитрия. Согласно распространенной версии, это был беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Новоявленный Дмитрий получил поддержку польского воеводы города Сандомира Юрия Мнишека. Под крыло «царевича» пошли казаки, московские беглецы, польские и литовские авантюристы… Самозванцу невольно помог и сам Годунов со товарищи. Ведь они долгое время скрывали царское происхождение Дмитрия, называя того князем. Зато после появления претендента на престол вдруг бросились служить за упокой души Димитрия, уже именуя его царевичем! Все это вкупе со странным «назначением на должность царя» зело смутило народную массу.
А тут еще – целая череда неурожайных лет. Люди мрут с голоду, едят собак и кошек, сено и кору… Доходило до людоедства: купцам и иноземцам не советовали в одиночку путешествовать по стране. Народ воспринял голод как Божью кару за грехи царя-татарина. Ненавидели «выскочку» и бояре. Подозрителен был и жесток, под стать приснопамятному государю Иоанну Васильевичу.
Итак, 13 октября 1604 года трехтысячное войско самозванца вторглось в пределы Московского царства с юго-запада и двинулось вглубь Северской земли. И местное население поддержало Лжедмитрия! Дюже не любил народец северский московскую власть, от которой многие сюда и бежали. К служилым людям да разбойничкам добавились крепостные крестьяне: во время голода Годунов разрешил им уходить от своих господ туда, где можно было прокормиться. Вот часть крестьян (и даже горожан) из голодных областей нахлынула на юг. Прийти-то пришли, да только не навсегда: согласно указу об «урочных летах» 1597 года, им по окончании голода надлежало вернуться к хозяевам, иначе они подлежали пятилетнему сыску. А Лжедмитрий щедро обещал свободу и вольную жизнь! Так Северский край становится «гнездом Смуты».
Под стать ему и Комарицкая волость. Здешнее крестьянство опасалось, что при «татарском царе», да еще в условиях многолетнего голода комарицким вольностям придет конец, свободного землепашца задушат непосильными податями и наденут на него крепостное ярмо. Сохранились свидетельства о том, что комарицкие жители прятали зерно, зарывая его в землю; некоторые от ужаса перед ожиданиями «годуновской перестройки» даже вешались. Нечто подобное Россия переживет тремя веками позже, в годы советской коллективизации. Неудивительно, что жители Комарицкой волости, видя, как Лжедмитрий мирно, без грабежей и разора вступил в их земли, словно истинный державный владетель, да еще сторонник всевозможных свобод, приняли его как законного государя. В январе 1605 года Лжедмитрий занимает Севск, комарицкие крестьяне присягают новому царю, многие вступают в его войско, обеспечивают его продовольствием, фуражом, предоставляют свои дома для постоя.
Однако 21 января 1605 года у села Добрыничи в жестоком сражении войско Годунова под предводительством князей Федора Мстиславского и Василия Шуйского разгромило самозванца. Лжедмитрий потерял в битве свыше трети своей 15-тысячной армии убитыми и бежал в Путивль, а мятежная Комарицкая волость была полностью выжжена и разорена: каратели не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. «Москвитяне… произвели жестокую расправу над камаринцами. Последние, без различия пола и возраста, обречены были на варварские казни; их сажали на кол, вешали за ноги и расстреливали из луков и пищалей, младенцев же – жарили на сковородах», – читаем у Мартемьянова.
Все эти, а также дальнейшие мрачные и кровавые события привели к тому, что в памяти народной закрепилась поговорка – «Северская земля – воровская земля».
Орел да Кромы – первые воры
Идти на штурм Путивля победители не решились. К самозванцу подошли более четырех тысяч казаков, и Лжедмитрий направил часть из них во главе с донским атаманом Андреем Корелой на защиту городка Кромы, куда в помощь отряду воеводы Федора Шереметева спешило войско князя Мстиславского. Для самозванца этот городок, открывший ему ворота в 1604 году, имел большое значение. В случае потери Кром «царевич» лишался удобного выхода к Калуге, а оттуда – на Москву; он принужден был бы двигаться по правому берегу Оки, преодолевая сопротивление сильных крепостей.
Осада Кром началась сразу после битвы при Добрыничах и длилась уже больше двух месяцев, когда казаки Корелы совершили дерзкий рейд, прорвали окружение и вступили в город, который к тому времени защищали всего 200 стрельцов и 300 казаков. «Шелудивый маленький человек, покрытый рубцами», как описывали Корелу современники, отличался не только великой храбростью, но и воинским искусством. Казаки и стрельцы успешно держали оборону Кром до самой смерти Бориса Годунова 13 апреля 1605 года. Хотя осаждающие не особо рвались в бой: царь Борис стремительно терял опору и среди господ, и среди холопов, а вот популярность Лжедмитрия, наоборот, росла.
Все разрешилось неожиданно. Под Кромы для приведения войска к присяге новому царю, 16-летнему Федору Борисовичу, прибыл воевода Петр Басманов – герой обороны Новгорода-Северского от войск самозванца. Однако вместо того, чтобы готовить очередной штурм, Басманов вместе с войском перешел на сторону «царевича». Это объяснялось тем, что после смерти Годунова при дележе должностей Басманов рассчитывал стать главным воеводой над царским войском, а его назначили вторым воеводой и отдалили от двора, нанеся смертельную обиду. Короче, Басманов «с полки противными мирно соединившася». Вслед за Кромами ворота Лжедмитрию открыли Орел и Карачев, в результате Лжедмитрий уже 20 июня въехал в Москву и взошел на престол.
Вот как раз все эти городки первыми в фольклор и вошли. Появилась в народе знаменитая поговорка: «Орел да Кромы – первые воры, и Карачев – на подтачу (или – в придачу)». И по отдельности эти предательские города удостоились упоминания: «Кромы – ворам хоромы», «В Орле что ни двор, то вор»…
Правда, есть версия, согласно которой поговорки появились позднее, при Лжедмитрии II, сменившем предшественника, который быстро скукожился. Первый оказался слишком явным «западником», окружил себя иноверцами, иноземной гвардией, не соблюдал церковных постов и русских обычаев, одевался в европейское платье и заставлял бояр есть телятину, которую московиты считали нечистой пищей. К тому же новый царь был «по женской линии слаб», насильно превращая многих боярских жен и дочерей в своих наложниц. Короче, 17 мая 1606 года, после свадьбы самозванца в Москве с полячкой Мариной Мнишек, полыхнул бунт, Лжедмитрия жестоко убили, над трупом надругались, а царем стал князь Василий Шуйский. Недолго музыка играла, недолго Дмитрий танцевал.
Однако северские бунташные земли встали на дыбы. Здесь перебили гонцов с письмами от Шуйского. А летом 1606 года в Путивле поднял мятеж «военный холоп» князя Телятевского Иван Болотников, который объявил себя «главным воеводой» государя Димитрия Иоанновича, опять якобы ускользнувшего из рук убийц. В советское время это выступление остроумно обозвали «крестьянским восстанием», хотя в походе участвовали и дворяне, и казаки, и просто всякая сволочь. Болотников повел свои войска на Кромы через Комарицкую волость, где в его войско вливались местные крестьяне. В 1606 году отряды Болотникова нанесли под Кромами поражение войску Василия Шуйского.
Население вновь присягало на верность царю Дмитрию, который в мае 1607 года опять явился из Польши. Кто таков был новый самозванец, дело темное: то ли сын попа, то ли сын еврея из Шклова. Лжедмитрий II рванул в Московию с дружинами разношерстной шляхты. Однако «воеводу» Болотникова к тому времени уже разгромили. «Димитрий» бежал со всех ног по направлению к Карачеву, а затем с ноября 1607 по май 1608 года обосновался в Орле, за что и был прозван «орловским цариком». Как мы видим, и в этой истории на первое место выступают Кромы, Орел да Карачев. Что касается Кром, именно здесь зимой 1607/1608 года сосредоточились войска Лжедмитрия II для похода на Москву.
На мой взгляд, поговорка о «воровском» Орле должна была появиться именно при втором самозванце (или после краха его кампании). Дело в том, что в самом начале Смуты, при Лжедмитрии I, Орел оказался одним из тех городов, которые оказали достаточно серьезное сопротивление мнимому «царевичу». Самозванцу покорились Чернигов, Путивль, Рыльск, Севск, Кромы и другие города – но не Орел. Кромчане с «околенскими мужиками» предприняли было наступление на Орел, но были разгромлены московитской сотней Самоила Лодыженского. Дети боярские из Орла (129 конников и 287 пищальников) сражались в московской рати Мстиславского и Шуйского, которая разбила самозванца у Добрыничей. Правда, в конце концов, город все же открыл ворота Лжедмитрию, «царевича» даже встретили колокольным звоном и хлебом-солью. Но это случилось уже «под занавес» трагической драмы, так что вряд ли Орел времен Лжедмитрия I можно назвать «первым вором».
А вот при втором самозванце город играл центральную роль в смуте. Не зря нового Димитрия назвали «орловским цариком». Что касается Кром и Карачева, они держались на слуху и во время первого, и во время второго пришествия самозванцев.
Белый царь и курский вор
Однако же воровским клеймом в русском фольклоре оказались помечены и другие города засечной черты Московского царства. Так, Николай Лесков в романе «Некуда» приводит «баснословие» о разделе земли между Христом и дьяволом: «Он (чорт) хитер, ух, как хитер. Он возвел господа на крышу и говорит: “Видишь всю землю, я ее всю тебе и отдам, опричь оставлю себе одну Орловскую да Курскую губернии”. А господь говорит: “А зачем ты мне Курской да Орловской губернии жалеешь?” А черт и говорит: “Это моего тятеньки любимые мужички и моей маменьки приданная вотчина, я их отдать никому не смею…”» Такая характеристика Курского края наряду с «отмороженной» Орловщиной не случайна и тоже берет начало в истории Смутных времен.
Вообще-то Курск с 1360 года входил в состав Великого Княжества Литовского и только в 1508 году отошел к Московии. Однако набеги татар да ногайцев привели к полному разорению города, и заново он возник как мощная крепость лишь в 1596 году. Именно сюда Иван Грозный ссылал в первую очередь «кромешников» и бунтарей. Здесь сложился особый тип людей, которых прозывали «севрюками». Писатель и краевед Евгений Марков характеризовал их следующим образом: «Постоянная жизнь на пустынных рубежах русской земли, среди глухих лесов и болот, вечно на стороже от воровских людей, вечно на коне или в засаде, ежедневный риск своей головой, своей свободой – выработали из севрюка такого же вора и хищника, незаменимого в борьбе с иноплеменными ворами и хищниками, все сноровки которых им были хорошо известны, как свои собственные». В одной из исследовательских работ сотрудники Курского археологического музея сообщают некоторые любопытные детали: «Уложив в стычке противника, курский порубежник в качестве подтверждения своей доблести предъявлял воеводе уши, а нередко и отрезанную голову врага». Забавная историческая параллель: в советском ГУЛАГе 1930–1940-х годов существовала похожая практика: за пойманного беглеца-зэка аборигенам платили премию оружием, порохом, продуктами и проч. Но для этого эвенк или якут должен был предъявить либо голову, либо руку убитого «побегушника». Впрочем, такие зверские традиции встречаются у многих народов. Снимали же индейцы скальпы с поверженных врагов…
Увы, в период Великой Смуты куряне дружно выступили против центральной московской власти и последовательно поддержали обоих самозванцев. В Курске вспыхнуло восстание, горожане привезли связанными в Путивль к Лжедмитрию I своего воеводу князя Григория Борисовича Рощу Долгорукова и стрелецкого голову Якова Змиева, которым ничего не оставалось, как присягнуть «царевичу». Сюда же доставили и чудотворную Курскую Коренную икону Знамения Божьей Матери, которую Димитрий затем увез с собой в Москву. В отряды самозванца влилось свыше четырех тысяч курских казаков и черкас. Мятежники захватили князя Григория Шаховского, который собирал в Курске дворянское ополчение против самозванца. Позднее, в 1606 году, куряне поддержали восстание Ивана Болотникова. В декабрьском сражении под Москвой 1607 года на стороне Болотникова и его сподвижника Илейки Муромца бились больше пяти тысяч курских казаков и служилых людей.
Да и позднее Курская земля доставляла Москве немало головной боли: здешние «разбойнички» то поддерживали Стеньку Разина, то уходили на Дон к вольным казакам… Оттого и возникла популярная в свое время поговорка: «Нет у белого царя вора супротив курянина». Белым царем тюрки и казаки называли московских государей.
Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!
Раз пошла такая пьянка, надобно упомянуть о том, что подобными присловьями русский народ отметил не одних курян. Фольклор не обошел вниманием и Ливны, которые сдались самозванцу – «Ливны ворами дивны» («Ливны всем ворам дивны»). Польские иезуиты писали сторонникам Лжедмитрия, что Ливны не уступают по размерам Путивлю (тогдашней резиденции самозванца) и значение этого города в военное время исключительно велико.
Менее известна поговорка о подмосковном Дмитрове – «Дмитровцы – ворам не выдавцы». Дмитров – пожалуй, единственный из «воровских» городков, который находился не на юго-западных границах Московии, а напротив, в 65 километрах к северу от нее. Поэтому ряд историков склонен предполагать, что присловье имеет в виду какой-то другой Дмитров, Дмитровск, Дмитрово – который расположен был где-то в северских мятежных землях. Например, Тимофей Мартемьянов был убежден, что подразумевается «Дмитровск, уничтоженный, по преданию, за смутные крамолы камаринцев и получивший свое имя едва ли не от самого “названного Дмитрия”». На самом деле сельцо Дмитриевка, из коего позже вырос город Дмитровск, было основано лишь в 1711 году бывшим молдавским господарем Дмитрием Кантемиром на землях, пожалованных ему Петром I. Никакого иного «дмитровского» следа в засечных землях времен Смуты мы не находим.
А вот подмосковный Дмитров и впрямь оставил о себе память в истории самозванцев. В январе 1610 года его взял литовский шляхтич Ян Сапега, выступавший на стороне Лжедмитрия II. В феврале, правда, отряды Сапеги были разгромлены воеводой Михаилом Скопиным-Шуйским, он погнал шляхтича до самого Дмитрова, однако тут московитов встретили лихие донские казаки, и Скопин-Шуйский вынужден был, как говорится, повернуть оглобли. В этом и смысл поговорки: дмитровцы не выдали «воров». Не случайна и перекличка со старинной казачьей поговоркой – «С Дону выдачи нет».
Не ускользнул от внимания народа московитского даже небольшой городок Новосиль, входивший в «засечную черту» и тоже приветивший обоих самозванцев – «Лихвинские горы да новосильские воры злее всех». Любопытно, что упомянутая в поговорке крепость-городок Лихвин между тем не припечатана лихим «воровским» прозвищем. «Злыми» названы только окрестные горы. Есть даже версия о том, что поначалу Лихвин назывался Девягорском. Словарь Брокгауза и Ефрона отмечал: «В смутное время он переходил из рук в руки и потерпел сильное разорение». Видимо, этот узловой центр Лихвинской засеки, окруженный надежной крепостной стеной и частоколом из заостренных бревен, не сразу сдался самозванцу. Дороги меж засек запирались воротами с башнями, на которых постоянно находились дозорные. «Лихвинская засека» имела семь таких ворот с крепостями. Так что к «воровским» городкам Лихвин не причислили, а вот горы вокруг помянули недобрым словом.
Однако еще более занятно совсем другое упоминание мятежных воровских людей. С ним, пожалуй, встречался любой русский человек, хотя бы краем уха слыхал. Это – известная народная песня «Камаринская», которая начинается словами «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!». Еще бы не знать: эту народную плясовую мелодию использовали в своем творчестве и Михаил Глинка, и Петр Чайковский, даже «Большая Медведица пера» – Лев Толстой заставил свою графинюшку Наташу Ростову отплясывать «Камаринскую» в «Войне и мире».
Правда, мало кто знаком с текстом самой песни. Тем более что он на протяжении веков менялся – и в конце концов превратился в бытовое скабрезное ерничество. Так, Дмитрий Ушаков в своем «Толковом словаре» пишет: «КАМАРИНСКАЯ… Русская народная плясовая песня, героем которой является пьяный "камаринский мужик"». Из других источников мы можем почерпнуть примерно то же: мол, «камаринская» – это танец русских крестьян, который плясали на базарах и ярмарках.
В принципе так оно и было. И куплеты с нецензурщиной, и описание пьяных непотребств – вариантов много:
Ах ты сукин сын камаринский мужик,
Заголил штаны, по улице бежит.
Он бежит-бежит, попердывает,
Свои штаники подергивает…
…
Ах, ты, сукин сын, камаринский мужик!
Ты куда это вдоль улицы бежишь?
– А бегу я для похмелки в кабачок,
Без похмелки жить не может мужичок.
Так, да не совсем так. Потому как родилась песня о камаринском мужике в самом центре Смуты – Комарицкой (Комаринской, Комарницкой) волости. И в наиболее ранних вариантах начиналась следующими словами:
Ах ты, сукин сын, камаринский мужик,
Не хотел ты свому барину служить!
Эта «родословная» давно уже подтверждена историками русского фольклора – и до революции, и после нее. Название волости при этом варьируется. В «Орловском вестнике» 1896 года: «Родина комаринского мужика Севск (Комаринская волость). Комаринский мужик (по песне) – необузданный вольник, бесшабашный гуляка. Три века тому назад и после Севск служил местом ссылки – и сделался притоном бродяг». Большая Советская энциклопедия 1953 года (второе издание) содержит статью, посвященную «Камарицкой»: «“Камарицкая” (Комарицкая) – русская плясовая песня, живого, задорного, юмористического характера. Происхождение песни про “Комарицкого мужика” некоторые исследователи связывают с Комарицкой волостью, население которой сыграло видную роль в крестьянском восстании И.И. Болотникова (1606–1607). В Комарицкой нашли отражение традиции старинного народного музыкального искусства (в частности, скоморошьего). Известна во множестве вариантов вокальных и инструментальных… Многочисленные тексты “Камарицкой” носят преимущественно шуточный, иногда социально-сатирический характер».
Согласно Мартемьянову, Комарицкая (Каморницкая, Камаринская и т.д.) волость получила свое название от «каморников»: так в актах «Литовской хроники» (а волость отошла к Москве от Литвы только в 1503 году) именовались в составе горожан и селян «люди убогие, не имевшие своих домов, жившие в чужих избах и каморах». Таким образом, Каморницкая волость – край бездомных, бродяг. Поначалу малолюдный, он за десять лет, которые предшествовали Смуте (1592–1603), по словам краеведа, обратился «в кипевшую народом землю. Люд этот представлял собою, однако, пеструю смесь “племен, наречий, состояний”, в котором явно преобладал “злодейский элемент”, проникнутый одним началом – призванием к “разбойному делу”, готовностью “под дорогою стоять, зипуны-шубы снимать”». Миграции способствовало закрепощение крестьянства в коренных московских областях. Холопы бежали от барского гнета на московскую Украйну и прежде всего в Камаринскую волость: «…Крепостное право в то время фактически здесь почти совершенно отсутствовало, быть может, потому, что с одной стороны Камаринщина считалась дворцовым владением, а с другой не находилось, вероятно, и смельчаков, желающих владеть “душами” тамошних буйных головорезов» (Мартемьянов). Еще одною приманкой в условиях гулявшего по Московии голода было плодородие камарицких земель.
Но далеко не всех беглецов прельщала судьба вольных землепашцев. Многие предпочитали ей вольную разбойничью жизнь, сбиваясь в ватаги и доставляя головную боль центральной московской власти. Та проводила карательные рейды, что раздражало украинных разбойников. Именно поэтому Комарицкая волость и стала надежной опорой самозванцев.
Песню о камаринском мужике некоторые историки называют «гимном Севских крестьян». К сожалению, первоначальный текст его, видимо, не сохранился. Однако затем безымянные авторы, так сказать, произвели операцию по перемене пола несчастного барина, сотворив из него барыню. В этом виде песня существовала долгое время и дошла до нас. Правда, из-за множества непристойных слов и оборотов исследователи не решались публиковать полный текст «Камаринской», обильно заменив часть лексики многоточиями. Вот как приводит песню уже не раз поминавшийся Тимофей Мартемьянов:
Ах с…кин сын,
Вор – камаринский мужик.
Он не хочет, не желает
Своей барыне служить.
* * *
Сняв (кафтан) по улице, бежит,
Он бежит-бежит
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Его судорга подергивает.
* * *
Он бежит-бежит,
Да спотыкается,
Сам над барынею, над сударынею
Потешается.
* * *
Ох, ты, барыня, ты, Марковна,
У тебя ли… (сердце) бархатно,
У меня же… шолковое,
. . . . . . . . . . пощелкивает.
На самом деле во второй строфе пропущено слово «попердывает», а в последнем куплете речь идет, конечно, вовсе не о «сердце». Он звучит так:
Ох, ты, барыня, ты, Марковна,
У тебя ли nиздa бархатна,
У меня же муде шелковое,
В муде ядрышки пощелкивают.
Слово «муде» в русском языке подразумевает и мошонку, и яички («муде» – двойственное число, обозначающее пару мужских яичек).
Своеобразным продолжением «Камаринской» является известная песня «Барыня», которая, по мнению фольклористов, тоже родилась в Северской земле и продолжает традицию высмеивания хозяев-помещиков, причем в обоих случаях необходима именно женщина, чтобы показать не только моральное, но и сексуальное унижение барства:
Как на барыне ль солоп,
Ебeт барыню холоп,
На барыне ль чепчик –
Ебeт ее немчик.
Разумеется, со временем тексты «Камаринского мужика» и «Барыни» полностью изменились. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь…
Как Елец Азову погрозил
Позвольте, но где же наш знаменитый Елец? Помянули мы многие «воровские» поговорки, а о нем как-то позабыли. А между тем заново отстроенная Елецкая крепость имела самый крупный гарнизон на юге Московии и мощное пушечное вооружение. В тысячном гарнизоне города числилось 150 детей боярских, 600 казаков плюс стрельцы. В 1604 в армии царя Бориса Годунова сражалось 400 конных казаков из Ельца.
Но к началу Смутного времени настроения ельчан сильно изменились. Голодные годы и усиление крепостного гнета привели к возмущению местного населения. Осенью 1603 года в окрестностях Ельца полыхнуло крестьянское восстание, которое охватило значительную часть южного порубежья Московии. Во главе бунтарей стал новгородец Хлопок Косолап. Мятежников тайно поддержали даже некоторые опальные бояре. Бунтовщики двинулись на Москву, но были разбиты годуновским войском, а Хлопка казнили в столице. Однако зерно смуты уже упало в нужную почву. В 1604 году ельчане отказываются обрабатывать государеву десятинную пашню, и вообще, по словам летописца, «был Елец в смуте и непослушании».
С началом войны против самозванца из южных городов были отозваны многие стрельцы и казаки для усиления армии Федора Мстиславского. Из Ельца к Мстиславскому прибыли 400 конных казаков с пищалями и 100 пеших стрельцов. Ослабление гарнизона вкупе с мятежными настроениями горожан привело к тому, что в марте 1605 года Елец и Ливны заявили о своей преданности «законному царю» Димитрию Иоанновичу. На решение ельчан и ливенцев в немалой степени повлияло поражение правительственных войск под Кромами (Кромы, к слову, были вотчиной елецких князей). После сдачи обеих крепостей и появились присловья о «воровских» Ельце и Ливнах. Елец к тому же стал для липового «царевича» главной опорой перед броском на Москву.
Когда первый самозванец воцарился на троне, Елец приобрел особую значимость. Лжедмитрий решил ознаменовать начало своего царствования победоносной войной, для чего вознамерился изгнать турок из устья Дона, нанеся мощный удар по Азову. Самозванец приказал отливать на Пушечном дворе новые мортиры, пушки, ружья, лично обучал стрельцов пушечному делу и штурму крепостей. Именно в Елец стали направлять осадную артиллерию, создавать в крепости огромные склады военного снаряжения и продовольствия, укреплять Елецкий кремль. Сам Дмитрий собирался весной отправиться в Елец и провести вместе с войском все лето.
Но не успел: московские бояре покончили в столице с неугодным царем несколько раньше. Однако запасы оружия и продовольствия не пропали зря: ими воспользовались новые мятежники под руководством Болотникова. Город восстал против очередного государя Василия Шуйского и был осажден войском во главе с боярином Иваном Воротынским. Впрочем, скоро отряд Болотникова разбил под Кромами царского воеводу Юрия Трубецкого, и Воротынский вынужден был снять осаду. Так Елец и оставался «воровским гнездом» вплоть до гибели Лжедмитрия II в 1610 году. Понятно теперь, отчего он попал в поговорку.
«Орловские» против «елецких»
И все же пока мы так и не добрались до сути дела. Понятно, что поговорка о Ельце как «отце» воровского мира родилась в Смутное время и подразумевала государственных преступников. Причем не один Елец заклеймен русским фольклором как «воровской» город. Вопрос: почему же лишь Елец сохранил до нынешнего времени свое «воровское» звание? Причем не в политическом, а в общеуголовном смысле.
Начнем с того, что со временем слово «вор» изменило свое значение: так стали называть не политического преступника, а обычного, бытового уголовника – от карманника до грабителя. Не в последнюю очередь подобная перемена связана с тем, что значительная часть мятежников, принявших сторону самозванцев, представляла собой отборный уголовный сброд либо безжалостных сорвиголов-«порубежников». Между теми и другими различия были довольно условными. Поэтому вор, разбойник и тать слились в русском сознании в одно целое.
Что касается мелких «оппозиционных» городков типа Новосиля или Дмитрова, после того как смута осталась в далеком прошлом, присказки о них приобрели исключительно местный характер. Поговорки про белого царя и курян, дивные воровские Ливны, пришей-пристебайский Карачев тоже стали в основном достоянием российской исторической старины. Большинство поговорок о мятежных воровских городках и до сих пор кочуют в пределах регионов, где они когда-то появились.
Другое дело – Орел да Елец. Как-то так вышло, что два эти города с самых смутных времен вступили в негласное соревнование: который круче, какой из них самый «воровской»? Возможно, в памяти народной сохранялась та существенная роль, которую оба города сыграли в возвышении «сладкой парочки» Лжедмитриев? Похоже на то. Но ведь и Кромы в Смуту не слабо отличились! Так-то оно так. Только затем в своем развитии Кромы далеко уступили торговым центрам Орлу и Ельцу. А уж в Советской России Кромы и вовсе лишились городского статуса, став обычным селом (ныне – поселок городского типа).
Как бы то ни было, из всех «бунташных» городков «воровской авторитет» (хотя и в новом значении) сохранили за собой лишь Орел и Елец. Причем наиболее худая слава закрепилась за орловскими жителями. Уж дюже народец подобрался лихонравный! Давала себя знать мощная разбойничья генетика. Как утверждает историк и фольклорист Владимир Неделин в книге «Орел изначальный», именно Орловщина – место обитания легендарного Соловья-Разбойника, который свил себе гнездо на девяти дубах. А место схватки Ильи Муромца и этого самого Одихмантьева сына расположено аккурат между Орлом и Карачевым. К востоку от Карачева лежит село с названием Девять Дубов, там же протекает и река Смородинка, которая упомянута в былине.
Да и «засечный» непокорный дух московской пограничной украйны долго еще бурлил в орловской крови. За здешними жителями закрепились также прозвища «дубинники» и «орловцы – проломленные головы». Все оттого, что традиционные русские бои «стенка на стенку» на Орловщине отличались особой жестокостью. По правде сказать, и в других уголках России они далеки были от марлезонского балета и часто не обходились без того, чтобы кого-то насмерть не зашибли. Орловская земля, однако, и здесь была впереди России всей. У Николая Лескова один из персонажей вспоминает о кулачных боях в городе: «Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащат домой человека на руках и отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А многие оставались, но чахли».
Но то в городе; а по окрестным орловским местам обычаи наблюдались куда более отчаянные. На одном из форумов, посвященных истории Орловской губернии, мне довелось встретить любопытное сообщение пользователя под ником Maja:
«Орловские – это были бунтовщики. Отсюда второе наше прозвище…: "Дубинники" – дубина было наше излюбленное подручное средство вооружения. И – "орловские – проломленные головы", то есть безбашенные.
И! Однажды в Должанском районе Орловской области я видела, как человек, который ночами участвовал в боях с молодыми же людьми из Липецкой области (а бои происходили на тракторах, ночью, и дело было при угасании Советской власти, причем утром трактор был все равно в строю и на работе), делал подобную дубинку. Он любовно тер ее шкуркой, в нее были воткнуты шипы, сделанные местным кузнецом, наверное, прямо в рабочее время, и вид у дубинки был – самый устрашительный, жуткий вид. Молодой человек, звали его Витяка, что-то напевал, готовя к ночи боевое оружие, при Советской власти скорее пугательное. Потому что, насколько я знаю, жертв и разрушений, кроме покореженных частей у тракторов, не имелось…»
Да, при Советах с дубинами дело обстояло строго. А вот в проклятые царские времена народ был проще, черепа трещали чаще. Что и отразила великая русская литература. Так, у Михаила Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города» читаем: «Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли – на том основании, что “Орел да Кромы – первые воры”, или шуянину… но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду “Проломленных Голов” <…> Поехал к ним орловец, <…> Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание». Столь же нелестную характеристику находим позднее и у Леонида Андреева в «Рассказе о семи повешенных» (1908): «Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид. – Мы все, орловские, проломленные головы, – говорил он степенно и рассудительно. – Орел да Кромы – первые воры. Карачев да Ливны – всем ворам дивны. А Елец – так тот всем ворам отец. Что ж тут толковать!»
Соперничество Ельца и Орла отразил самый русский из русских писателей – уроженец Орловщины Николай Лесков в ироническом рассказе «Грабеж» (1887). В нем рассказывается, как дядюшка, приехавший в Орел из Ельца, вместе со своим орловским племянником ночью принимают местного дьякона за городского «подлета» (налетчика) и с перепугу сами выступают в роли грабителей, а затем идут каяться в полицию.
Несмотря на явную иронию и «комедию положений», Лесков отчетливо дает понять, что Орел в середине XIX века считался небезопасным городом. Поначалу дядя из Ельца не придает этому значения:
«…Дядя один стоит, за скобку держится и сердится.
– Что это, – говорит, – вы, как тетери, днем закупорились?
Маменька с ним здравствуются и отвечают:
– Разве вы, – говорит, – братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами, и день, и ночь от полиции запираемся.
Дядя отвечает, что это у всех одно положение: Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворам отец».
Далее следует противопоставление городов – разумеется, в пользу Ельца: «Эх вы, – говорит, – вороны-сударыни, купчихи орловские! У вас и город-то не то город, не то пожарище – ни на что не похож, и сами-то вы в нем все, как копчушки в коробке, заглохли! Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губернские. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего, так вы и то ценить не можете».
Весь рассказ проникнут явным страхом перед «подлетами», и эти жутковатые опасения не возникли, как можно понять, на пустом месте. Напротив, племянник Миша очень подробно и со знанием дела описывает криминальный быт ночных разбойников:
«А впереди теперь у нас Ока, надо на лед сходить; а на льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлета, который за нами следит, верно, тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить – и убить, и под воду спустить. Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилкою из костры и из соломы, в которых они лежат, покуривают и дожидают. И особые женки кабацкие с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут, а уж те грабят, а эти опять на карауле караулят.
Больше всего нападали на тех, кто из мужского монастыря от всенощной возвращался… Если же кто хотел цел от всенощной воротиться, то приглашали с собой провожатыми приказных Рябыкина или Корсунского. Оба силачи были, и их подлеты боялись. Особливо Рябыкина, который был с бельмом и по тому делу находился, когда приказного Соломку в Щекатихинской роще на майском гулянье убили…»
Заметьте: один из приказных в отрывке рисуется тоже как подозрительная уголовная личность; ему, видать, ничего не стоит при случае «ушатать» неугодного человека. В то же время и елецкие обыватели в рассказе Мишиной маменьки выглядят не лучше – хотя речь идет не об уголовщине, а о безбашенном нраве жителей Ельца: «Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они в Ельце все колобродники. К ним даже и в дома-то их ходить страшно: чиновников зазовут угощать, а потом в рот силой льют, или выливают за ворот, и шубы спрячут, и ворота запрут, и запоют: "Кто не хочет пить – того будем бить". Я своего братца на этот счет знаю».
Ежели здраво рассудить, вряд ли криминальная ситуация в Орле либо в Ельце так уж здорово отличалась от положения во многих других российских городах. В разное время славились своей воровской или разбойничьей хваткой и помянутый выше Курск, и Тамбовщина, и другие регионы. Вот, скажем, ходили по Центральной России поговорки о Хлынове. Отмечены они и в сборнике пословиц русского народа, составленном Владимиром Далем:«Хлыновские воры», «Хлыновцы корову в сапоги обули (краденую, чтобы следу не было)», «Хлын взял (пропало)». Судя по всему, тоже старые присловья, поскольку город Хлынов был переименован в Вятку еще в 1780 году (при Советах он получил название Киров). Однако вплоть до конца XIX, а то и до начала XX века поговорки о ловких хлыновцах еще были на слуху. Но явно не настолько, чтобы соперничать с Орлом да Ельцом.
Как воры сменили папу и сами себя зауважали
Однако ближе к концу XIX века в криминальной топонимике Российской империи произошли существенные перемены. Место двух уголовных столиц отечественного преступного мира заняли Ростов и Одесса. Заняли прочно и неколебимо, закрепив за собой гордые определения – Ростов-папа и Одесса-мама. Почему и как так случилось – тема отдельного рассказа. Любопытно отметить лишь одну параллель: как Елец и Орел были городами юго-западного порубежья Московского государства, точно так же Ростов и Одесса – города юго-западного «подбрюшья» Российской державы. Но главное, они быстро развивались как крупнейшие торговые центры и порты империи, привлекавшие к себе богатством и теплым климатом бродяг и босяков со всей империи. Ростов при этом обрел славу «славянской» уголовной столицы, а Одесса – столицы еврейских уркаганов. Хотя по большому счету особой борьбы за пальму первенства между ними не наблюдалось.
Но в любом случае Орел и Елец для преступного элемента и криминального фольклора, что называется, «ушли в тину». Хотя самого дна не коснулись: в босяцкой памяти они нет-нет да и всплывали. Так, в повести «Тайны сибирских алмазов» вор сталинского периода (а затем писатель) Михаил Демин рассуждает: «…Кражи и грабежи в России процветали всегда. Существовали старинные поговорки о городах: “Орел да Кромы – первые воры”, “Город Елец – всем ворам отец”». О захолустном сельце Кромы к тому времени блатной люд в большинстве своем понятия не имел, однако никуда не денешься – рифма обязывает…
Важно сказать несколько слов и о понятии «вор». Оно тоже со временем сильно изменилось. Уже к началу ХХ века в преступном мире «вор» стал не просто определением всякого жулика да грабителя, но, скорее, синонимом профессионального преступника, неким чуть ли не «кастовым» определением. Таким вором был, скажем, Васька Пепел, которого вывел в пьесе «На дне» Максим Горький. Вот как он характеризовал себя:
«Мой путь – обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал… Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын…
Я – сызмалетства – вор… все, всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну – нате! Вот – я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то… оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня…»
Конечно, это были еще не те «воры в законе», которые сегодня представляют собой замкнутый преступный клан. Речь шла скорее о личностной самоидентификации, причислении себя к «цеху» профессионалов, в отличие от случайных людей, попавших в криминальный мир. Хотя, безусловно, в уголовном сообществе того времени (перелом XIX–XX веков) существовала своя иерархия. Наверху стояли Иваны – самые опытные и авторитетные преступники. В тюрьмах и на каторге заправляли «бродяги» – профессиональные уркаганы.
Среди «профессионалов» была масса градаций и различий: «фартовики», «марвихеры» (воры высшей квалификации), «жиганы», «пустынники», «орлы» (не раз совершавшие побеги с каторжных работ)… Между ними, конечно, возникали свои трения: отчаянные налетчики-«фартовики» и «марвихеры» с некоторым пренебрежением относились к бродягам-«пустынникам», которые нередко на воле занимались нищенством и попрошайничеством, однако в местах не столь отдаленных «держали масть». На низшей ступени преступной лестницы находились жалкие «халамидники» [ Халамидник – мелкий воришка, оборванец. По одной из версий, происходит от украинского «халамида», то есть балахон, ряса, хламида (то есть таким уголовникам нечего было даже надеть, кроме бесформенной рвани).
По другой версии, название восходит к слову «халамидка» – маленькая булка в форме пирамидки, дешевый хлеб для бедных. Практически то же, что сибирские савотейки – безвкусные булки, которые оставляли на подоконниках для бродяг и беглых каторжан. Халамидки упоминаются, например, в тюремных очерках Алексея Свирского. ], промышлявшие на базаре, таская булки с лотков или всякую рвань с возов у торговцев. Собственно, «халамидники» входили в состав «шпаны»: прежде «шпанкой», то есть овечьим стадом, профессиональные преступники называли всю безропотную массу каторжан, затем, убрав одну «уменьшительную» букву, стали именовать так мелкий уголовный сброд. Однако каждый из этих людей называл себя «вором». Никто бы не осмелился назвать себя Иваном или «фартовиком», если не относился к этим группам. «Ворами» же считали себя все.
В то же время статус «вора» приобретает особый вес, становится как бы «знаком отличия». Как бы доходчивее объяснить? Это как в армии – категория офицерства. Офицер – и младший лейтенант, и полковник, и генерал. Но все-таки офицерство разделяется на младших офицеров (включая капитана), старших (от майора до полковника) и генералитет. И разумеется, нижние военные чины (от ефрейтора до старшего прапорщика) не имеют права называть себя офицерами. Но, скажем, «воином» может называть себя любой. Однако вопрос, как к этому отнесутся остальные. Вот «вор» – это примерно воспринималось как криминальный «воин». И отказ в признании уголовника вором считался оскорблением. Любопытен в этом смысле диалог из «Тюремных очерков» (1893) Алексея Свирского:
«– Кто же я, по-твоему, вор аль нет?
– Мы с тобой вместе не воровали.
– Нет уж, ты не финти, а прямо отвечай: вор я, аль нет?
– Не знаю я тебя за вора – вот тебе весь мой сказ!
– А, так ты вот куда гнешь! Я, по-твоему, значит, не вор? Так держися, дружок…
И с этими словами оскорбленный преподносит обидчику здоровенный удар в грудь».
В этом контексте поговорки про Елец да Орел еще имели смысл как указание на города, где преступный «воинский» элемент многочислен и чувствует себя как дома. При всем том Елец к началу ХХ века представлял собою малочисленный захолустный городок, вполне мирный и безопасный. Славился он обилием церквей и набожностью обывателей; его даже называли «вторым Сионом». Да и Орел уже особой лихостью не выделялся.
Как воры придумали закон и стали честными
А в первые десятилетия советской власти в уголовном мире происходят серьезнейшие перемены, в результате которых слово «вор» в очередной раз наполняется совершенно новым содержанием. После Гражданской войны многие противники большевистской власти эмигрировали за кордон. Другая часть осталась в Советской России и пыталась вписаться в новую реальность (в том числе бывшие офицеры Белой армии).
Однако нашлось и немало тех, кто предпочел воевать против ненавистной власти, уйдя в подполье. Чекисты и милиция выработали действенные методы борьбы с политическими подпольными организациями – и тогда немало кадровых военных, дворян, интеллигенции и прочих «бывших» были выдавлены в «уголовное подполье». Маргиналы политические слились с маргиналами уголовными. Прежде всего «идейные» (как называли уголовников из «бывших» в преступном мире) взяли под свое крыло армии босяков и беспризорников, пытаясь создать из них не просто криминальные группировки, но и разбойничью оппозицию новому режиму. Появляются неформальные правила и «законы» соответствующего направления: не иметь семьи, не обзаводиться имуществом, не служить в армии, не участвовать в политической жизни, не читать газет, не принимать участия в выборах и т.д.
Подобные группировки отличались особой жестокостью, нападали на государственные учреждения, банки, склады, магазины… Через некоторое время большевистская власть поняла опасность таких формирований. Ответственным за борьбу с беспризорностью назначают лично Феликса Дзержинского. В 1926 году вступает в силу новый Уголовный кодекс, где присутствуют только две расстрельные статьи – 58 и 59, часть третья (бандитизм, или преступления против порядка управления). Власть дает понять уркаганам, что всякое выступление против государства будет караться смертью.
«Благородный преступный мир» быстро реагирует. И без того «их благородия» являлись серьезными конкурентами старорежимных уголовных профессионалов в борьбе за власть в маргинальном мире. Теперь же и вовсе «жиганы» [ Жиган – «горячий» парень, бесшабашный удалец, то, что сейчас называется «безбашенный». От русского корня «жиг», «жег», связанного с жечь, поджигать. Первоначально жиганами (жеганами) называли людей, связанных с «горячим» производством – например, работников винокурен (см. словарь Даля). ] (как прозвали «белую кость» уркаганы старой закалки) грозили довести «благородный преступный мир» до цугундера [ Цугундер – выражение из морского жаргона, заимствованное уголовниками.
Это жуткий вид наказания, когда провинившегося протягивали на веревке под килем корабля. Такое испытание многие не выдерживали и погибали. От немецкого Zug unter – протягивание низом. ]. Посему решено было откреститься от «идейных» и продемонстрировать лояльность новой власти (тем паче она провозгласила уголовников «социально близкими»). Начинается война между «жиганами» и «уркаганами», особенно в местах лишения свободы, где воры составляли большинство; ведется мощная обработка босяков и бродяг в духе ненависти к преступникам из числа «бывших»… В рядах «блатных» проповедуются идеи любви к советской власти и ее вождям. Эти настроения сохранялись вплоть до послевоенных лет, чуть ли не до смерти Сталина (хотя уже в значительно меньшей степени).
Вот любопытное свидетельство ростовского писателя Владимира Фоменко, который попал под жернова репрессий в период Большого террора 1937–1938 годов и был брошен в Богатяновский централ. Фоменко пишет в «Записках о камере»:
«В камерах хватает воров… Как один, они патриоты. Уважают родную мать и власть СССР. Презирают контриков, именуют их не людьми, а рогатыми чертями…
Жульман, забравший пиджак, <…> вздыхает, мол, болен, ударен по голове во время налета легашей, врагов Советской власти. За Советскую власть грозит полоснуть бритвой свой живот, доказывая этим патриотическую припадочность».
Другими словами, воровской мир ярко демонстрирует пламенную любовь к Республике Советов и лютую ненависть к ее врагам. Во второй половине 1920-х врагами были нэпманы и «идейные жиганы», которые, падлюки, подрывают могущество родины и не верят в коммунизм! В 1930-е объектом нападок и издевательств воров становятся «контрики», «фашисты», «троцкисты», «политики» – враги, «назначенные» властью.
Но в рамках нашего исследования особо следует отметить, что и сами воры становятся другими! Именно на рубеже 1920–1930-х годов появляются так называемые «воры в законе» – странный оксюморон, сочетание взаимоисключающих понятий. Теперь гордое звание вора никто не мог присвоить себе по собственному желанию – пусть даже был крадуном с пеленок. Необходимо было пройти обряд крещения, или коронования.
Собственно, между ними нет никакой разницы: просто крещение – для христиан, а коронование – для прочих нехристей и вообще безбожного люда. Короновала специальная воровская сходка: что-то вроде парткомиссии во время приема в ряды ВКП(б). Несколько воров рекомендуют, новичок рассказывает биографию и «боевые подвиги», а уж авторитетное собрание решает, достоин он звания вора или нет. Партбилета не выдавали, но вор имел право носить «воровской крест» – на гайтане или набитый на грудь, а нехристи тату
Tweet