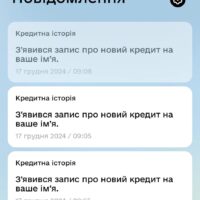Сладкий сон палача
Ни в какой другой стране мира еще не родилась женщина, лично убившая полторы тысячи человек. Передергивая затвор пулемета, она не думала о тех, кого расстреливает. Дети, старики, женщины — их жизни были для нее просто работой. “Какая чушь, что потом мучают угрызения совести. Что те, кого убиваешь, приходят по ночам в кошмарах. Мне до сих пор не приснился ни один”, — говорила она своим следователям на допросах, когда ее все-таки вычислили и задержали. Через тридцать лет после ее последнего расстрела. Тонька-пулеметчица работала на оккупированной советской территории с 41-го по 43-й годы, приводя в исполнение массовые смертные приговоры фашистов партизанским семьям. Уголовное дело брянской карательницы Антонины Макаровой-Гинзбург до сих пор покоится в недрах спецхрана ФСБ. Доступ к нему строго запрещен. Гордиться здесь нечем: ни в какой другой стране мира не родилась еще женщина, лично убившая полторы тысячи человек.
“Вы Тоньку слишком не ругайте, — вздыхает Петр Головачев, майор КГБ, занимавшийся в 70-е годы розыском Антонины Макаровой. — Знаете, мне ее даже жаль. Это все война, проклятая, виновата, она ее сломала… У нее не было выбора — она могла остаться человеком и сама тогда оказалась бы в числе расстрелянных. Но предпочла жить, став палачом. А ведь ей было в 41-м году всего 20 лет.
…Лето 1978-го года по улице белорусского городка Лепель шла женщина. Совершенно обычная. С авоськой в руках. В плаще песочного цвета. Рядом остановилась машина: “Вам необходимо срочно проехать с нами!” — выскочили неприметные мужчины в штатском, обступили, не давая ей возможности вырваться, убежать. Как загнанную волчицу погнали за флажки. Ату ее, ату!
Подняла на них взгляд, тяжелый, суровая складка на переносице прорезалась еще горше. “Покурить дадите?” — а у самой руки трясутся.
Тридцать три года после Победы эту женщину звали Антониной Макаровной Гинзбург. Она была фронтовичкой, ветераном труда, уважаемой и почитаемой в своем городке. Ее семья имела все положенные по статусу льготы: квартиру, знаки отличия к круглым датам и дефицитную колбасу в продуктовом пайке. Муж у нее тоже был участник войны, с орденами и медалями. И две взрослые дочери гордились своей правильной мамой. На нее равнялись. С нее брали пример. Еще бы, такая героическая судьба: всю войну прошагать простой медсестрой от Москвы до Кенигсберга.
Учителя школ приглашали Антонину Макаровну выступить на линейке, поведать подрастающему поколению прописные истины о том, что в жизни каждого человека всегда найдется место подвигу. И что самое главное на войне — это не бояться смотреть смерти в лицо. И кто, как не Антонина Макаровна, знал об этом лучше всего…
— Вы догадываетесь, зачем вас сюда привезли? — спросил следователь брянского КГБ, когда ее привели на первый допрос.
— Ошибка какая-то, — усмехнулась женщина.
— Вы не Антонина Макаровна Гинзбург. Вы — Антонина Макарова, больше известная как Тонька-москвичка или Тонька-пулеметчица. Вы — карательница, работали на немцев, производили массовые расстрелы. О ваших зверствах в деревне Локоть, что под Брянском, до сих пор ходят легенды. Мы искали вас больше тридцати лет — теперь пришла пора отвечать за то, что совершили. Сроков давности ваши преступления не имеют.
Покачнулась, но все же усидела на стуле. “Значит, не зря последний год на сердце стало тревожно, будто чувствовала, что появитесь, — проглотила слюну. — Как давно это было. Будто и не со мной вовсе. Практически вся жизнь уже прошла. Ну, записывайте…”
Из протокола допроса Антонины Макаровой-Гинзбург, июнь 78-го года.
— Все приговоренные к смерти были для меня одинаковые. Менялось только их количество. Обычно мне приказывали расстрелять группу из 27 человек — столько партизан вмещала в себя камера. Я расстреливала примерно в 500 метрах от тюрьмы у какой-то ямы. Арестованных ставили цепочкой лицом к яме. На место расстрела кто-то из мужчин выкатывал мой пулемет. По команде начальства я становилась на колени и стреляла по людям до тех пор, пока замертво не падали все…
“Cводить в крапиву” — на Тонькином жаргоне это означало повести на расстрел. Она же сама умирала трижды.
Первый раз — осенью 41-го, в страшном “вяземском котле”, молоденькой девчонкой-санинструкторшей. Гитлер пер тогда “Тайфуном” на Москву. Пехота харкала трупами, смешалась зловонная жижа — люди, лошади, машины, а вприхлебку — кровавое месиво из октябрьских луж.
Полководцы бросали свои армии на смерть. И это не считалось преступлением. У войны другая мораль. Больше миллиона наших мальчишек и девчонок всего за шесть дней погибли в той вяземской мясорубке. Пятьсот тысяч оказались в плену. Гибель простых солдат в тот момент ничего не решала и не приближала победу. Она была просто бессмысленной.
Так же как помощь медсестры мертвецам…
19-летняя медсестра Тоня Макарова, очнулась после боя в лесу. В воздухе пахло горелой плотью. Рядом лежал незнакомый солдат. “Эй, ты цела еще? Меня Николаем Федчуком зовут”.
— А меня Тоней, — она ничего не чувствовала, не слышала, не понимала. Будто душу ее контузили. Осталась одна человеческая оболочка, а внутри — пустота.
Потянулась к нему, задрожав: “Ма-а-амочка, холодно-то как!”
— Ну что, красивая, не плачь. Будем вместе выбираться, — и Николай расстегнул верхнюю пуговицу ее гимнастерки. Чтобы уж точно проверить — живая ли, это самый надежный способ.
Три месяца потом, до первого снега, они вместе бродили по русским чащобам, выбираясь из окружения, не зная ни направления движения, ни своей конечной цели. Где наши? Где враги? Голодали, ломая на двоих, ворованные ломти хлеба. Днем шарахались от военных обозов. По ночам согревали друг друга, спичек-то не было.
Тонька стирала обоим портянки в студеной воде. Готовила нехитрый обед. Любила ли Николая? Скорее, выгоняла, выжигала каленым железом, страх и холод у себя изнутри.
— Я почти москвичка, — врала гордо Тонька. — В нашей семье много детей. И все мы Парфеновы. Я — старшая, как у Горького, рано вышла в люди. Такой букой росла, неразговорчивой. Пришла как-то в школу деревенскую, в первый класс, и фамилию свою позабыла. Учительница спрашивает: “Как тебя зовут, девочка?” А я знаю, что Парфенова, только сказать боюсь. Ребятишки с задней парты кричат: “Да Макарова она, у нее отец Макар”. Так меня одну во всех документах и записали. После школы в Москву уехала, тут война началась. Меня в медсестры призвали. А у меня мечта другая была — я хотела на пулемете строчить, как Анка-пулеметчица из “Чапаева”. Правда, я на нее похожа? Вот когда к нашим выберемся, давай за пулемет попросимся…
В январе, грязные и оборванные, Тоня с Николаем вышли, наконец, к деревне Красный Колодец. И тут им пришлось навсегда расстаться.
— Знаешь, моя родная деревня неподалеку. Я туда сейчас, у меня жена, дети, — сказал ей на прощание Николай. — Я не мог тебе раньше признаться, ты уж меня прости. Спасибо за компанию. Дальше сама как-нибудь выбирайся.
— Не бросай меня, Коля, — Тонька повисла на его гимнастерке.
Стряхнул — как пепел с сигареты. И все-таки ушел. А она — осталась.
Несколько дней побиралась по хатам. Христарадничала. Просилась на постой. Сердобольные хозяйки ее сперва пускали, но через несколько дней неизменно отказывали от приюта, объясняя тем, что самим есть нечего: “Больно взгляд у нее нехороший, — резонно судили бабы. — К мужикам нашим пристает, кто не на фронте, лазает с ними на чердак, просит ее отогреть”.
Наверное, Тонька в тот момент действительно спятила. Доконало ли ее предательство Николая? Или просто закончились вдруг силы? Остались лишь физические потребности.
Хотелось есть. Пить. Помыться с мылом в горячей бане. И переспать с кем-нибудь, чтобы только не оставаться в темноте — страшно там одной, холодно. Она не хотела быть героиней. Она просто хотела выжить. Любой ценой.
В той деревне, где Тонька остановилась вначале, полицаев не было. Почти все ее жители ушли в партизаны. В соседней деревне, наоборот, прописались одни каратели. Линия фронта здесь шла посередине околицы.
Как-то Тонька брела по околице, полубезумная, потерянная, не зная, где, как и с кем она проведет эту ночь. Остановили ее люди в форме, поинтересовались по-русски: “Кто такая?”
— Антонина я, Макарова. Из Москвы, — тряхнула темноволосой головой.
Ее привели в администрацию села Локоть. Полицаи говорили ей комплименты, по очереди рвали ворот ее гимнастерки, мяли, лапали… Потом, когда любовь закончилась, ей дали глотнуть самогонки. Много, целый стакан. И — пулемет в руки. Как она и мечтала. Разгонять непрерывной пулеметной строчкой пустоту внутри. По живым людям.
— Макарова-Гинзбург рассказывала на допросах, что первый раз ее вывели на расстрел партизан совершенно пьяной, она не понимала, что делала, — вспоминает Леонид Савоськин, следователь по делу. — Но заплатили хорошо — 30 марок, и предложили сотрудничество на постоянной основе. Ведь никому из русских полицаев не хотелось мараться, они предпочли, чтобы казни партизан и членов их семей совершала женщина. Бездомной и одинокой Антонине дали койку в комнате на местном конезаводе, где можно было ночевать и хранить пулемет. Утром она добровольно вышла на работу.
Из допроса Антонины Макаровой-Гинзбург, июнь 78-го года:
— Я не знала тех, кого расстреливаю. Они меня не знали. Поэтому стыдно мне перед ними не было. Бывало, выстрелишь, подойдешь ближе, а кое-кто еще дергается. Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не мучился. Иногда у нескольких заключенных на груди был подвешен кусок фанеры с надписью “партизан”. Некоторые перед смертью что-то пели. После казней я чистила пулемет в караульном помещении или во дворе. Патронов было в достатке…
Бывшая квартирная хозяйка Тоньки из Красного Колодца, что когда-то тоже выгнала ее из своего дома, пришла в деревню Локоть за солью. Ее задержали полицаи и повели в местную тюрьму, приписав связь с партизанами.
— Не партизанка я. Спросите хоть вашу Тоньку-пулеметчицу, — испугалась баба.
Тонька посмотрела на хозяйку внимательно, хмыкнула: “Пойдем, я дам тебе соль”.
В крошечной комнате, где жила Антонина, царил порядок. Стоял пулемет, блестевший от машинного масла. Рядом, на стуле, аккуратной стопочкой, сложена одежда. Нарядные платьица, юбки, белые блузки с рикошетом дырок в спине. И — корыто для стирки на полу.
— Если мне вещи у приговоренных нравятся, так я снимаю потом с мертвых, чего добру пропадать, — объяснила Тонька. — Один раз учительницу расстреливала, так мне ее кофточка понравилась, розовая, шелковая, но уж больно вся в крови заляпана, побоялась, что не отстираю — пришлось ее в могиле оставить. Жалко… Так сколько тебе надо соли?
— Ничего мне от тебя не нужно, — попятилась к двери хозяйка. — Побойся бога, Тоня, он ведь есть, он все видит — столько крови на тебе, не отстираешься!
— Ну раз ты смелая, что же ты помощи-то у меня просила, когда тебя в тюрьму вели? — закричала Антонина вслед. — Вот и погибала бы по-геройски! Значит, когда шкуру надо спасти, то и Тонькина дружба годится? — бросилась на постель и зарыдала, рукой обнимая пулемет.
По вечерам Антонина наряжалась и отправлялась в немецкий клуб на танцы. Другие девушки, подрабатывавшие у немцев проститутками, с ней не дружили. Тонька задирала нос, бахвалясь тем, что москвичка. С соседкой по комнате, машинисткой старосты, она тоже не откровенничала. Та ее боялась за какой-то порченый взгляд. И еще — за рано прорезавшуюся складку на упрямом лбу — будто Тонька слишком много думает. Хотя о чем она, собственно, могла думать?
О розовой кофточке, проглядывавшей из-под комьев безымянной братской могилы?
На танцах Тонька напивалась допьяна. Меняла партнеров как перчатки, смеялась, чокалась, стреляла сигаретки у фашистских офицеров. И не думала, не думала, не думала — из последних сил не думала о тех 27, что ждут ее рано утром.
Жизнь — копейка. И чужая, и своя. Страшно убивать только первого, второго, потом, когда счет идет на сотни, это становится просто тяжелой работой.
Перед рассветом, когда после пыток затихали стоны приговоренных к казням партизан, Тонька вылезала тихонечко из своей постели и часами бродила по бывшей конюшне, переделанной наскоро в тюрьму, всматриваясь в лица тех, кого ей завтра предстояло убить.
Из допроса Антонины Макаровой-Гинзбург, июнь 78-го года:
— Мне казалось, что война спишет все. Я просто выполняла свою работу, за которую мне платили. Приходилось расстреливать не только партизан, но и членов их семей, женщин, подростков. Об этом я старалась не вспоминать. Хотя обстоятельства одной казни помню — перед расстрелом парень, приговоренный к смерти, крикнул мне: “Больше не увидимся, прощай, сестра!..”
Ей потрясающе везло. Летом 43-го, когда начались бои за освобождение Брянщины, у Тоньки и еще нескольких местных проституток обнаружилась постыдная венерическая болезнь. Немцы приказали девчонкам лечиться, отправив их в свой далекий тыл, в госпиталь.
Когда в село Локоть вошли советские войска, отправляя на виселицы предателей Родины и бывших полицаев, от злодеяний Тоньки-пулеметчицы остались одни только страшные легенды.
Из вещей материальных — наспех присыпанные кости в братских могилах на безымянном поле, где, по самым скромным подсчетам, покоились останки полутора тысяч человек.
Удалось восстановить паспортные данные лишь около двухсот человек, убитых Тонькой.
Смерть этих людей и легла в основу заочного обвинения Антонины Макаровны Макаровой, 21 года, предположительно жительницы Москвы.
Больше не знали о ней ничего…
— Розыскное дело Антонины Макаровой наши сотрудники вели тридцать с лишним лет, передавая его друг другу по наследству, — рассказывает майор КГБ Петр Головачев. — Периодически оно попадало в архив, потом, когда мы ловили и допрашивали очередного предателя Родины, оно опять всплывало на поверхность. Не могла же Тонька исчезнуть без следа?! Это сейчас можно обвинять органы в некомпетентности и безграмотности. Но работа шла ювелирная. За послевоенные годы сотрудники КГБ тайно и аккуратно проверили всех женщин Советского Союза, носивших это имя, отчество и фамилию и подходивших по возрасту, — таких Тонек Макаровых нашлось в СССР около 250 человек. Но — бесполезно. Настоящая Тонька-пулеметчица как в воду канула…
— А разве не проще было просто о ней забыть? — интересуюсь я у Петра Николаевича.
— Понимаешь, слишком страшные были ее преступления, — отвечает майор. — Это просто в голове не укладывалось, сколько жизней она унесла. Нескольким людям удалось спастись, они проходили главными свидетелями по делу. И вот, когда мы их допрашивали, они говорили о том, что Тонька до сих пор приходит к ним в снах. Молодая, с пулеметом, смотрит пристально — и не отводит глаза. Они были убеждены, что девушка-палач жива, и просили обязательно ее найти, чтобы прекратить эти ночные кошмары. Мы понимали, что она могла давно выйти замуж и поменять паспорт, поэтому досконально изучили жизненный путь всех ее возможных родственников по фамилии Макаровы…
Но никто из следователей не догадывался, что начинать искать Антонину нужно было не с Макаровых, а с Парфеновых. Да, именно случайная ошибка деревенской учительницы в первом классе, записавшей отчество Тоньки как ее фамилию, и позволила “пулеметчице” ускользать от возмездия столько лет. Ее настоящие родные, разумеется, никогда не попадали в круг интересов следствия по этому делу.
…Но в 76-м году один из московских чиновников по фамилии Парфенов собирался за границу. Заполняя анкету на загранпаспорт, он честно перечислил списком имена и фамилии своих родных братьев и сестер, семья была большая, целых пять человек детей.
Все как положено — Парфеновы. И только одна почему-то Антонина Макаровна Макарова, с 45-го года по мужу Гинзбург, живущая ныне в Белоруссии.
Мужчину вызвали в ОВИР для дополнительных объяснений. На судьбоносной встрече присутствовали, естественно, и люди в штатском.
— Мы ужасно боялись поставить под удар репутацию уважаемой всеми женщины, фронтовички, прекрасной матери и жены, — вспоминает Головачев. — Поэтому в белорусский Лепель наши сотрудники ездили тайно, целый год наблюдали за Антониной Гинзбург, привозили туда по одному выживших свидетелей, бывшего карателя, одного из ее любовников, для опознания. Только когда все до единого сказали одно и то же — это она, Тонька-пулеметчица, мы узнали ее по приметной складке на лбу, — сомнения отпали…
Муж Антонины, Виктор Гинзбург, ветеран войны и труда, после ее неожиданного ареста обещал нажаловаться в ООН. “Мы не признались ему, в чем обвиняют ту, с которой он прожил счастливо целую жизнь. Боялись, что мужик этого просто не переживет”, — говорят следователи.
Он закидывал жалобами организации, уверяя, что очень любит свою жену. И даже если она совершила какое-нибудь преступление — например, денежную растрату, — он все ей простит .
А еще он рассказывал про то, как раненым мальчишкой в апреле 45-го лежал в госпитале под Кенигсбергом, и вдруг в палату вошла она, новенькая медсестричка Тонечка. Невинная, чистая, как будто и не на войне, — он влюбился в нее с первого взгляда. А через несколько дней они расписались.
Антонина взяла его фамилию. И поехала как верная спутница после демобилизации вместе с мужем в забытый богом и людьми белорусский Лепель, а не в Москву, откуда ее и призвали когда-то на фронт.
Когда старику сказали правду, он поседел за одну ночь. И больше жалоб не писал.
— Арестованная мужу из СИЗО не передала ни строчки. И двум дочерям, которых родила после войны, кстати, тоже ничего не написала и свидания с ним не попросила, — рассказывает Леонид Савоськин, следователь по делу. — Когда с нашей обвиняемой удалось найти контакт, она начала обо всем рассказывать. О том, как спаслась, бежав из немецкого госпиталя и попав в наше окружение, выправила себе чужие ветеранские документы, по которым начала жить. Она ничего не скрывала, но это и было самым страшным. Создавалось ощущение, что она искренне недопонимает: за что ее посадили, что ТАКОГО ужасного она совершила? У нее как будто в голове блок какой-то с войны стоял, чтобы самой с ума, наверное, не сойти. Она все помнила, каждый свой расстрел, но ни о чем не сожалела. Мне она показалась очень жестокой женщиной. Я не знаю, какой она была в молодости. И что заставило ее совершать эти преступления… Желание выжить? Минутное помрачение? Ужасы войны? В любом случае это ее не оправдывает. Она погубила не только чужих людей, но и свою собственную семью. Она просто уничтожила их своим разоблачением. Психическая экспертиза показала, что Антонина Макаровна Макарова вменяема.
Следователи очень боялись каких-то эксцессов со стороны обвиняемой: прежде бывали случаи, когда бывшие полицаи, здоровые мужики, вспомнив былые преступления, кончали с собой прямо в камере. Постаревшая Тонька приступами раскаяния не страдала. “Невозможно постоянно бояться, — говорила она. — Первые десять лет я ждала стука в дверь, а потом успокоилась. Нет таких грехов, чтобы всю жизнь человека мучили”.
Во время следственного эксперимента ее отвезли в Локоть, на то самое поле, где она вела расстрелы. Деревенские жители плевали ей вслед как ожившему призраку, а Антонина лишь недоуменно косилась на них, скрупулезно объясняя, как, где, кого и чем убивала…
Для нее — не для них — это было далекое прошлое, другая жизнь.
“Опозорили меня на старости лет, — жаловалась она по вечерам, сидя в камере, своим тюремщицам. — Теперь после приговора придется из Лепеля уезжать, иначе каждый дурак станет в меня пальцем тыкать. Я думаю, что мне года три условно дадут. За что больше-то? Потом надо как-то заново жизнь устраивать. А сколько у вас в СИЗО зарплата, девчонки? Может, мне к вам устроиться — работа-то знакомая…”
Ее расстреляли 11 августа 1978 года. В шесть часов утра. Почти сразу после вынесения смертного приговора. Решение суда стало абсолютной неожиданностью даже для людей, которые вели расследование, не говоря уж о самой подсудимой.
Все прошения 55-летней Антонины Макаровой-Гинзбург о помиловании в Москве были отклонены.
В Советском Союзе это было последнее крупное дело об изменниках Родины в годы Великой Отечественной войны. И единственное, в котором фигурировала женщина-каратель.
Никогда позже женщин в нашей стране по приговору суда не казнили. Но тут был исключительный случай.
Наверное, и самой Антонине тоже было интересно хоть раз в жизни посмотреть на казнь глазами жертвы, а не палача…
Ольга Багалейша, Екатерина Сажнева; Брянская область — Москва
Tweet