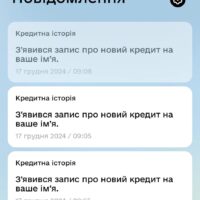Уроки истории: расстрел как способ мобилизации

95 лет назад, 7 июня 1927 года, в Варшаве был убит советский полпред Петр Войков. На второй день советская власть отомстила за его смерть, казнив без суда и следствия 20 случайных человек, напоминает Радио Свобода.
Выстрелы в Варшаве и Москве
27 мая 1927 года, убедившись в подрывной деятельности Коминтерна, британское правительство разорвало дипотношения с Советским Союзом. Полпреду Аркадию Розенгольцу пришлось возвращаться домой. 7 июня в 9 часов утра он прибыл из Берлина в Варшаву. На перроне его встречал советский полпред в Польше Войков. До отправления поезда Варшава – Москва оставалось меньше часа. Войков, отослав не ненадобностью помощника, предложил коллеге пройти в буфет, затем показал ему свой автомобиль, после чего они стали в ожидании московского поезда прогуливаться по платформе.
В своих показаниях польскому суду Розенгольц рассказал:
Мы шли по перрону и разговаривали. Когда прошли несколько вагонов, я вдруг услыхал очень близко выстрел. Я не знаю, стрелял ли убийца спереди или сзади. Я пошел вперед и увидел посланника Войкова, бегущего в направлении, противоположном тому, по которому мы шли. Я не предполагал, что здесь, в Варшаве, может произойти подобное преступление, и что стреляют в Войкова. Сзади Войкова был какой-то человек с револьвером, который стрелял. Войков после нескольких шагов задержался, достал револьвер и выстрелил два раза, потом зашатался и упал на руки подбежавшего полицейского.
Итак, смертельно раненный Войков отстреливался. Стрелявший в него спокойно дождался подбежавших к нему полицейских и сдался без малейшего сопротивления. Это был 19-летний уроженец Вильны (Вильнюса) Борис Коверда, сын учителя народной школы.
Пресс-служба постпредства в тот же день опубликовала заявление, в котором содержится предположение, что покушение было тщательно спланировано и что у Коверды наверняка были сообщники:
Из обстоятельств убийства обращает на себя внимание момент, что телеграмма, извещающая о проезде поверенного в делах Розенгольца через Варшаву, была получена лишь накануне в 10 ч. вечера. Телеграмма была нешифрованная. О ее получении знали только ближайшие помощники покойного посла.
Таким образом, уже теперь представляется возможным констатировать, что за послом Войковым или было устроено специальное организованное наблюдение, или же, что убийца был заранее уведомлен какими-то посторонними источниками о предстоящем проезде Розенгольца.
Но на суде Коверда показал:
Я знал Войкова по фотографиям, помещенным в иллюстрированных журналах. Кроме того, я видел его в консульстве. То, что Войков должен был быть на вокзале, я узнал из газет. Из газет же я узнал, что Войков уезжает в Москву. Я знал, что только один скорый поезд уходит в девять часов пятьдесят пять минут в Советскую Россию и знал, на какой линии он стоит.
“Неслыханное злодеяние”
В Москве уже в день убийства замнаркома иностранных дел Максим Литвинов вручил ноту польскому посланнику Станиславу Патеку. Текст ноты гласил, что “это неслыханное злодеяние” совершено “русским монархистом”.
Интернетом растиражировано утверждение, что Коверда отомстил Войкову за его роль в убийстве царской семьи. Роль эта была очень значительна, но Коверда тогда об этом ничего не знал и не мог знать. На суде он подробно рассказал, как пришел к идее покушения на Войкова.
Я решил убить Войкова, как представителя банды злодеев, как большевистского комиссара… Убивая Войкова, я хотел отомстить за миллионы людей, хотел послужить родине. Часть прессы считает меня монархистом, но я не монархист. Я читал манифест великого князя Николая Николаевича и пожертвовал один доллар. Я демократ и хотел, чтобы в России было какое-нибудь правительство, но только не большевики, не коммунисты, только не банда злодеев, которая уничтожила массу людей.
В 1984 году, за три года до смерти, Коверда опубликовал в газете “Русская мысль” и журнале “Часовой” статью, в которой назвал двух своих сообщников и утверждал, что знал об участии Войкова в расстреле царской семьи из книги следователя Николая Соколова – ему поручил расследовать это дело адмирал Колчак. Действительно, книга Соколова вышла в Берлине в 1925 году, и Коверда мог ее читать. Но в ней фамилия “Войков” упоминается лишь однажды, и о его истинной роли ничего не сказано.
В ходе предварительного следствия были проведены обыски в квартире Коверды и в помещениях русских эмигрантских организаций, а также допросы сотрудников этих организаций. Но никаких связей Коверды с ними не обнаружилось, хотя советская печать изображала его матерым белогвардейцем и одновременно орудием в руках “поджигателей войны”.
Советское правительство не стало дожидаться суда. Ему было все ясно. 10 июня в газетах появилось сообщение под заголовком “От коллегии Государственного Политического Управления” с пометкой: “Получено по радио сегодня в 1 час 30 мин. ночи”.
Ввиду открытого перехода к террористической и диверсионно-разрушительной работе со стороны монархической белогвардейщины, действующей из-за рубежа по указке и на средства иностранных разведок, коллегия ОГПУ постановила опубликовать приговор о высшей мере наказания – расстреле, – вынесенной в заседании от 9 июня с.г. в отношении нижеследующих лиц…
Список расстрелянных представлял собой набор людей, до ареста не знакомых друг с другом и никак не связанных с Борисом Ковердой. Они принадлежали к разным сословиям и попали в лапы ОГПУ в разное время и при различных обстоятельствах. У некоторых дата ареста совпадает с датой казни. Список заканчивался фразой, набранной капслоком: “ПРИГОВОР ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ”. И подписью: “Председатель ОГПУ Менжинский”.
О некоторых казненных сказать почти нечего. Вот, например, Мураков Александр Федорович. Родился в 1896 году в Иваново-Вознесенске. Получил среднее образование. Проживал в Москве, работал десятником на перестройке сарая под жилое помещение. И всё. Сообщение ОГПУ гласит, что это “купец, активный участник контрреволюционной монархической организации”.
Мазуренко Сергей Емельянович. Один из тех, кого арестовали за несколько часов до расстрела. ОГПУ представляет его как “б. колчаковского офицера, служившего в центральном управлении морского трапспорта”. Сведения о морском транспорте, а заодно и железнодорожном, он будто бы передавал британской разведке.
Нарышкин Борис Александрович. Сын видного сановника, товарища министра земледелия и государственных имуществ, затем сенатора, члена Государственного совета. Потерял ногу на Первой мировой войне. 8 июня – за день до расстрела – был арестован как “систематически ведший работу по созданию нелегальных контрреволюционных групп, оказывавший шпионские услуги целому ряду иностранных представительств в Москве”.
Мещерский Александр Александрович. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Подполковник. После 1918 года – счетовод. Арестован и расстрелян в один и тот же день. По версии ОГПУ – “активный монархист, ведший работу по объединению активных антисоветских элементов”.
Щегловитов Евгений Николаевич. Родился в 1902 в Полоцке Витебской губернии. Среднее образование. Проживал на станции Салтыковка Нижегородской железной дороги, временно не работал. “Сын генерала, ведший контрреволюционную монархическую и шпионскую работу по заданиям иностранных штабов”. Не было в России генерала с такой фамилией. И что это за иностранные штабы?
Почему “расстрел двадцати” так поразил мировое общественное мнение? Ведь были же многочисленные бессудные казни и прежде, был красный террор. Был. Но тогда шла Гражданская война, ожесточение и непримиримость демонстрировали обе стороны. К середине 20-х борьба была кончена. “Особы, приближенные к императору” и “отцы русской демократии” признали свое поражение. (Действие “Двенадцати стульев” происходит именно в 1927 году – в это время “союзы меча и орала” смотрятся уже смешно.) Приговор 1927 года – приговор мирного времени. Правящий в прошлом класс разгромлен, у его остатков нет шансов вернуться к власти. Из вождей русской эмиграции только самые упертые продолжали питать иилюзорные надежды на народное восстание в Советском Союзе. Запад давно отказался от идеи массированной помощи антибольшевистским эмигрантским организациям. Когда в мае 1923 года в Лозанне был убит советский дипломат Вацлав Воровский, Москва объявила бойкот Швейцарии (санкции, как сказали бы мы теперь), но ответных убийств не совершала. В 1924 году начался период дипломатического признания СССР.

Еженедельник Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией на яехословацком фронте. Статья Лациса – в колонке справа.
Почему на этот раз реакция была столь резкой? “Органы” не потрудились даже сколько-нибудь правдоподобно сформулировать обвинения против расстрелянных, представить хоть какие-то доказательства. Сообщение о расстреле составлено крайне неряшливо. Впрочем, согласно доктрине советской госбезопасности, доказывать вину врага необязательно. В ноябре 1918 года видный чекист Мартын Лацис опубликовал статью, в которой обращался к коллегам по работе:
Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого.Сторонником неизбирательных репрессий был и Ленин. Ильич не видел ничего предосудительного и в практике расстрела заложников:
Наиболее близкие к Советской власти мелкобуржуазные демократы… особенно любят возмущаться “варварским”, по их мнению, приемом брать заложников. Пусть себе возмущаются, но войны без этого вести нельзя, и при обострении опасности употребление этого средства необходимо, во всех смыслах, расширять и учащать.
Именно по признаку происхождения, принадлежности к “враждебному” классу и были арестованы эти 20. “Бывшие люди” – так стали называть граждан с такой анкетой во внутренних документах госбезопасности. Сначала в кавычках, а потом и без. Происхождение закрывало социальные лифты, доступ к пособиям и пенсиям, служило первым и главным признаком неблагонадежности.
Впрочем, некоторых арестовали как будто “за дело”. В группе действительных или мнимых монархистов оказался 24-летний сотрудник газеты “Правда” Соломон Наумович Гуревич. Он задумал убить кого-нибудь из большевистских вождей, и ему представился идеальный случай: он одолжил револьвер у приятеля и достал билет на торжественное заседание в Большом театре, где должен был выступать Николай Бухарин. Но, встретившись с ним лицом к лицу, Гуревич не решился вынуть из кармана оружие. В своей нерешительности он покаялся в письме знакомой. И к нему пришли. На допросе он сразу во всем признался и уверял, что действовал в одиночку.
Полковник Иван Михайлович Сусалин контрреволюционером назывался по праву. В Гражданскую он воевал на стороне белых. В СССР приехал из Франции по поручению генерала Кутепова – второго после Врангеля руководителя Русского общевоинского союза. Он попал в ту же ловушку, в какую впоследствии угодили Борис Савинков и Сидней Рейли – операцию “Трест”, оперативную игру, которая при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж блестящим успехом Лубянки, каким ее изображают лояльные летописцы госбезопасности.
Наконец, два самых значительных имени. Они значатся в расстрельном списке под номерами 1 и 2. Павел Долгоруков и Георгий Эльвенгрен.
Рыцарь контрреволюции
Георгий Евгеньевич Эльвенгрен (он же в финской транслитерации Юрьё Эльфенгрен) родился в Великом княжестве Финляндском, в городе Фридрихсгам (ныне – Хамина) в семье полковника русской армии, потомка шведского рода Уно Эугена Эльфенгрена и его жены католической веры Аделаиды-Марии Густавовны Щавинской (в ее переводах в России до сих пор издаются шведские, финские и норвежские сказки). Получил военное образование, в том числе в привилегированном Николаевском кавалерийском училище. В составе лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка участвовал в Первой мировой войне на Юго-Западном фронте, награжден Георгиевским крестом.

Георгий Эльвенгрен в кирасирском мундире
В конце 1916 года был ранен и направлен для выздоровления в Царскосельский дворцовый госпиталь, где санитарками работали, как известно, великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны и их мать императрица Александра Федоровна. Она помнила бравого кирасира по довоенной службе. Они много разговаривали в свободное от перевязок время. И вдруг грянуло убийство Распутина. Эльвенгрен будто бы был знаком и с Юсуповым, и с великим князем Дмитрием Павловичем. Вероятно, за ним тогда была установлена слежка. А он, поправившись, выпил лишку в ресторане и дал волю языку. В итоге – Петропавловская крепость и обвинение в намерении убить императрицу и ее фрейлину Анну Вырубову.
Из узилища его освободила Февральская революция. Но и ей он не угодил. Википедия утверждает, что Эльвенгрен “активно участвовал” в Корниловском выступлении. Несомненно, участвовал бы, если бы в самом его начале не был выслан из России по распоряжению Временного правительства. Это было довольно странное решение, принятое на основании так называемого “закона об остракизме” – постановления Временного правительства от 2 августа августа 1917 года. В нем сказано:
1. Предоставить военному министру и министру внутренних дел, по взаимному их соглашению: 1) постановлять о заключении под стражу лиц, деятельность которых представляется особо угрожающей обороне государства, внутренней его безопасности и завоеванной революцией свободе, и 2) предлагать указанным в п.1 лицам покинуть, в особо назначенный для сего срок, пределы государства Российского.
https://youtu.be/qpCfgik9iDk
Петроград, лето 1917 года. Хроника.
Высылка была всего одна – именно та, в которую угодил Эльвенгрен. 25 августа “Известия” опубликовали список, в который вошли, помимо Эльвенгрена, та самая Вырубова, отставной генерал Василий Гурко, доктор тибетской медицины Бадмаев, личность из распутинского кружка Манасевич-Мануйлов и редактор черносотенной газеты “Земщина” Станислав Глинка-Янчевский. Но выслать злостных контрреволюционеров не получилось: в Финляндии революционные солдаты высадили их из вагона и по распоряжению Гельсингфорсского совета заключили в крепость Свеаборг, а потом отправили назад в Россию, где узников почему-то отпустили. Много было неразберихи в те дни.
Эльвенгрен был человеком авантюрного склада. Осенью 1917 года он оказался в Крыму, где тогда царил политический хаос. В декабре в Бахчисарае был созван крымскотатарский Курултай, провозгласивший создание Крымской Народной Республики, утвердивший конституцию и назначивший правительство – Директорию. Большевиков это никак не устраивало. На полуострове разгорелась ожесточенная гражданская война.
Армия КНР насчитывала примерно шесть тысяч штыков и сабель. В январе эти силы попытались взять Севастополь, но потерпели поражение. После потери Симферополя лидеры крымских татар или покинули Крым, или ушли в подполье. Глава Директории Номан Челебиджихан был арестован и убит революционными матросами без суда. Георгий Эльвенгрен командовал кавалерийским отрядом крымскотатарских войск. Из Крыма ему удалось благополучно бежать в Петроград.
В феврале 1918 года Эльвенгрен перебрался в Финляндию, где вспыхнула своя гражданская война: социал-демократы при поддержке Ленина, всего две недели как признавшего независимость Финляндии, учинили революционный переворот. Ротмистр Эльвенгрен был зачислен в вооруженные силы правительства в звании майора, принял командование батальоном и отличился в победоносной битве при Рауту (ныне – Сосново). В это же время красные были разгромлены в кровопролитном сражении за Тампере. Эльвенгрен продолжал служить в финской армии, получил чин подполковника, а весной 1919 года его призвало на службу самопровозглашенное государство – Республика Северная Ингрия, она же Ингерманландия.
Это крошечное новобразование на Карельском перешейке возникло на территории Петроградского уезда, в 50 километрах от Петрограда. Столицей стала деревня Кирьясало, выборным органом власти – Временный совет. Так местные жители ответили на сопровождавшуюся репрессиями кампанию принудительной мобилизации под руководством грозного чекиста Якова Петерса. Советские пограничные части попытались восстановить статус кво, но сил у них не хватило.
Эльвенгрен с женой жил тогда в Выборге, по его собственным словам, “от нечего делать политиканствовал” и был очень удивлен, когда к нему явилась делегация ингерманландцев.
Должен признаться, что до этого я об ингерманландцах почти понятия не имел, очень туманно и смутно представлял себе, кто они. О восстании знал лишь из газет, не имел до этого никакого к ним ни отношения, ни касательства… Появление ко мне вышеупомянутой делегации ингерманландцев явилось для меня совершенно неожиданным. Выслушав их объяснения и предложения, я заинтересовался ими, но ответил, что, не имея в принципе ничего против их предложения, могу принять его лишь в том случае, если получу на это соответствующее указание у финского правительства.
Так рассказывал об этом визите Эльвенгрен спустя восемь лет на допросе в ОГПУ. Указание было получено. За лето Эльвенгрен сформировал полк, насчитывавший полторы тысячи человек, установил отношения с Северо-Западным правительством, образовавшимся в Ревеле во главе с нефтепромышленником Степаном Лианозовым, и планировал осеннее наступление вместе с четырьмя финскими дивизиями и армией генерала Юденича на Петроград. Над большевистской столицей нависла смертельная угроза. Но генерал, будучи бескомпромиссным сторонником единой и неделимой России, самонадеянно отказался от помощи Финляндии. Его войска дошли до Пулковских высот, но были разбиты Красной Армией и отступили в Эстонию, где были разоружены и интернированы.
Но северо-ингерманландский полк свой маневр выполнил. Он дошел, как и планировалось, до деревни Токсово – “сердца” Северной Ингерманландии – и водрузил на Понтусовой горе флаг Северной Ингрии. До северных окраин Петрограда было рукой подать. Но флагу было суждено развеваться всего несколько дней. Большевики перебросили на Карельский перешеек свежие силы и тяжелое вооружение – два миноносца, артиллерию и бронепоезд. Эльвенгрен же не получил от финского правительства обещанной помощи: кого-то в Хельсинки пугал тот факт, что полком командует царский офицер, Эльвенгрена считали провокатором и требовали арестовать. (В июле 1919 года в Финляндии состоялись первые в истории страны президентские выборы. Регент Густав Маннергейм проиграл их Каарло Стольбергу, стороннику мирной внешней политики.) С тяжелыми боями сепаратисты отступали. Вместе с солдатами уходило местное население.
Вернувшись восвояси, Эльвенгрен занялся обучением и укреплением своего войска. Финские власти, собиравшиеся подписать мирный договор с Советами, смотрели на него косо. А ингерманландцы в ноябре выбрали его председателем Временного комитета. Впоследствии на Лубянке он называл “опереточным” государство площадью в 15 квадратных километров (на самом деле около 30. – Авт.), но при этом имеющее свои флаг, герб, гимн, почтовые марки, газету, вооруженные силы и даже флот.
По условиям Тартуского мирного договора, подписанного в октябре 1920 года, территория самопровозглашенной республики отходила к России. 6 декабря северо-ингерманландский батальон, состоявший к тому времени из 9 офицеров и 271 солдата, прошёл последним парадом по Кирьясало перед тем, как уйти на финскую сторону. Вслед за ним ушли 348 мирных жителей со скотом и пожитками.
На этом бурная биография Эльвенгрена не заканчивается. Он оставил пост главы карликового государства еще в феврале 1920 года. Затем стал одним из учредителей Народного союза защиты родины и свободы – организации Бориса Савинкова – был его резидентом в Гельсингфорсе и отвечал за работу в балтийских государствах и приграничных областях РСФСР. Он поддерживал связь и с группой Таганцева, и с кронштадскими мятежниками. После того, как восстание в Кронштадте было подавлено, а его вождь Степан Петриченко оказался в Финляндии, Эльвенгрен подписал с ним соглашение о сотрудничестве, из которого, впрочем, ничего не вышло.
В популярной литературе встречаются утверждения, что Эльвенгрен входил в группу савинковцев, готовивших покушение на советского наркоминдела Георгия Чичерина в 1922 году сначала в Берлине, а потом в Генуе. Однако крайне сомнительно, что Савинков замышлял такой теракт, хотя он и говорил об этом в советском суде.
В 1925 или 1926 году Георгий Эльвенгрен нелегально перешел советскую границу и был арестован под Тверью. Обстоятельства ареста неясны. Где-то написано, что он был “опознан”, где-то – что попался в сети “в результате спецоперации”. Савинковец Александр Дикгоф-Деренталь утверждает, что к этому времени Эльвенгрен вышел из ЦК Союза и действовал по собственному усмотрению, не информируя Савинкова. Современный петербургский историк Владимир Черняев предполагает, что Эльвенгрен ранее был завербован ОГПУ, и никакого расстрела на самом деле не было.
Патриарх либерализма
В отличие от Эльвенгрена князь Павел Дмитриевич Долгоруков на заговорщика нисколько не похож. Потомок древнего рода, убежденный пацифист, толстовец, один из основателей Конституционно-демократической партии, депутат II Государственной Думы, лишенный придворного звания камергера за либерализм.
В ноябре 1917 года он был избран членом Учредительного собрания, которому удалось провести всего одно заседание 19 января. В пятом часу утра начальник охраны Таврического дворца матрос Железняков сообщил, что караул устал и потребовал закрыть заседание. Долгоруков на этом заседании не присутствовал. Декретом от 28 ноября кадетская партия была объявлена партией врагов народа, ее руководство подлежало аресту. В тот же день Долгорукова отправили в Петропавловскую крепость.
Учредительное собрание и его разгон в изображении советского кинематографа. “Выборгская сторона”. Авторы сценария и режиссеры Сергей Козинцев и Леонид Трауберг. 1938.
Он провел в одиночной камере около трех месяцев, неожиданно легко бежал из-под стражи и перешел на нелегальное положение. С осени Долгоруков работал в Осведомительном агентстве Добровольческой армии (впоследствии – Отдел пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России). Севастополь он покинул на последнем корабле, французском крейсере “Вальдер-Руссо”, вместе с Врангелем. Он жил в Константинополе, Белграде, затем перебрался в Париж. Никаких капиталов или ценностей он из России не вывез, поэтому вел исключительно скромный образ жизни. Его брат Петр так описывает его парижское житье:
Это была комната, вероятно для прислуги, в 7-м этаже, в которую надо было подниматься по крутой винтообразной круглой каменной лестнице, абсолютно темной… Комната освещалась керосиновой лампой и отапливалась керосиновой грелкой. Меблировка: старая деревянная кровать, стол, твердый стул и табурет. И по-видимому, он, судя по его собственным рассказам и по рассказам очевидцев, как тогда, так и в Белграде, в Константинополе и во время Гражданской войны на юге России, совершенно просто и благодушно относился к невзгодам внешней обстановки и с каким-то равнодушным достоинством носил в беженстве поношенное или дареное старье.
Но Долгоруков не роптал. Его не покидала надежда создать за границей дееспособный политический орган. Политический объединенный комитет, Национальный комитет, Центральный объединенный комитет… Под разными вывесками в него входили все те же лица: вожди кадетов, представители Земского союза, Союза городов, Торгово-промышленного союза. Кроме разговоров “об объединении и возглавлении”, как писал сам Долгоруков, ничего не происходило. И тогда он решил отправиться в Россию, чтобы увидеть своими глазами, какой она стала.
Деньги на поездку он выпросил у Сергея Третьякова и других промышленников. Границу собирался переходить нелегально из Польши. Перед этим он провел несколько недель в волынском имении своего доброго знакомого барона Федора Штейнгеля. Барон вспоминает:
Приехал он в ужасном виде: ободранный, весь в заплатах, вроде какого-то бродяги. Но вид его тем не менее, как всегда, был и в таком наряде представительный, и, как всегда, он держал себя с большим достоинством, но также и с большим смирением.
Князь Долгоруков собирался отправиться в Советский Союз “переодетым не то дьячком, не то странником-богомольцем”.
“Придавленность и гнет страшный”
План его был очень наивен, что я и стал ему доказывать. Деньги у него были, но он не считал их своими. Я спрашивал, какая же цель толкает его на такой шаг? Он ответил, что “тот, кто посылает людей на смерть, должен и сам показать пример, когда его туда зовут идти, тем более что я одинок, уже стар, надо показать пример молодым”.
План не удался. Его вместе с проводниками задержали пограничники. Неделю он просидел в тюрьме, после чего его выдворили обратно в Польшу.
Это было в 1924 году. Спустя полтора года он повторил попытку. На этот раз он шел через румынскую границу. Получилось! Добравшись до Харькова, он увидел удручающую картину:
Из моих земско-кадетских знакомых – почти никого в Харькове не осталось. Придавленность и гнет страшный. Шпионаж вовсю. Прозябание.
Немногие оставшиеся знакомые общаются с ним с большой опаской, озираясь по сторонам.
Разговор с проф. *** в парке. Выясняется его окончательное сменовеховское пасование пред большевиками, как пред стихией, отсутствие национального чувства, трусость (сваливает на жену). Просил больше у него не бывать.
…Поручил 20-го офицеру побывать от моего имени у *** и спросить ответ. Он пишет, что адресат испугался при его приходе и захлопнул дверь… Очевидно, запуганы и лучшие друзья, которые в 18-м году самоотверженно мне помогали спастись из Петропавловской крепости и бежать из Москвы, а теперь трусят и смотрят на меня как на пришельца с того света.
Так и не дождавшись из Москвы никакого ответа на свои просьбы приютить его, Долгоруков решил ехать на авось. Теперь его план заключался в том, чтобы выйти на станции Лопасня (ныне город Чехов) и идти оттуда пешком в женский монастырь, настоятельницей которого была его родная тетка мать Магдалина, в миру графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова, бывшая фрейлина вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Он не знал, что община “Отрада и утешение“, которую графиня построила до революции на свои собственные деньги на своей собственной земле, уже разорена большевиками. Чтобы спасти монастырь от окончательного разгрома, мать Магдалина преобразовала его в сельскохозяйственную артель. Но в сентябре 1925 года Серпуховской уездный исполком постановил выгнать монахинь, а из артели организовать колхоз под названием “Весна”. Когда племянник решил добраться до нее, мать Магдалина жила Христа ради в деревне у добрых людей и помочь ему ничем не могла.
Но Долгоруков до обители и не добрался. Его арестовали на какой-то станции 13 июля 1926 года. “Надо признать, – пишет его брат, – что трудно найти человека, менее его подходящего для конспирации, как по своей наружности, так и по своей смелости, доверчивости и неосторожности”. Есть теория, что ОГПУ следило за ним с момента перехода границы, но, всего вероятнее, о нем донес кто-то из харьковских знакомых.
На этот раз Долгоруков пробыл в СССР на свободе около 40 дней и 11 месяцев – в тюрьме харьковского ГПУ.
В эмиграции об аресте Долгорукова узнали прежде, чем о нем было объявлено публично. Екатерина Пешкова, руководившая Московским комитетом Политического Красного Креста, поддерживала связь с Екатериной Кусковой, руководившей Берлинским комитетом той же организации. Вероятно, именно от Пешковой Кускова узнала, что Долгорукову пытается помочь ветеран РСДРП Давид Рязанов. Она сообщала Петру Долгорукову:
Очень, очень хорошо, что за него хлопочет Рязанов. Между прочим, Рязанов состоит директором Института Маркса и Энгельса, помещающегося в московском особняке Павла Дмитриевича.
Рязанов действительно помогал множеству политзаключенных, даже ссыльному Троцкому, выступал против смертной казни, хранил в своем институте архивы оппозиционных партий. А Институт Маркса и Энгельса действительно помещался в Малом Знаменском переулке в особняке, принадлежавшем братьям Долгоруковым. Пешкова заверяла Кускову, что ничего страшного князю не угрожает, преступление его – незаконный переход границы – невелико. Долгорукову даже разрешили переписку. В феврале 1927 года он писал брату:
Здоровье по возрасту хорошо. Материально обставлен вполне удовлетворительно и ни в чем не нуждаюсь. Хотя у меня только летняя рвань, но франтить не перед кем. К счастью, я привык к холодной одежке еще с Москвы и, когда менее 10°, гуляю по двору в летнем. Да и в эмиграции я не избалован и последнюю зиму жил в Париже в мансарде без печи и электричества. Теперь я живу в бельэтаже, электричество, центральное отопление. В камере оч. тепло. Стол улучшенный, гигиенический, вполне сытный… Вчера получил чрез Пешкову (Горькая), которую я знал по Художественному театру, (Долгоруков перепутал первую жену Горького со второй, актрисой МХТ Марией Андреевой. – Авт.) из Москвы 10 р. от Политического Красного Креста.
До решения моей судьбы на суде мне ничего не нужно. Желаю всем быть столь же бодрыми, что и я.
9 апреля 1927 года в “Известиях” появилась глумливая заметка под названием “Знатный путешественник, или как застрял в Харькове князь Павел Долгоруков”:
В 1924 году этот бодрый старик (ему около 60 лет) перешел нелегально границу, желая “поработать” в СССР. Но принужден был экстренным порядком поворотить назад оглобли. В 1926 году он повторил свою попытку. Добыв документы на имя Ивана Васильевича Сидорова, он проживал некоторое время в Харькове. Князь все время устраивал свидания со “своими” людьми. Все это были давно утихшие старички и старушки, бывшие земские деятели, увядшие либералы, засохнувшие кадеты. Когда Долгоруков перед этими “мощами” выкладывал свои планы, они отмахивались от князя всеми имевшимися в их распоряжении руками и ногами…
Текст этот как будто тоже говорит о снисходительном отношении властей к Долгорукову. Всего вероятнее, тогда серьезно наказывать его не собирались. Спустя 10 дней после первой заметки “Правда” опубликовала депешу ТАСС из Харькова, в которой со ссылкой на председателя ГПУ Украины Всеволода Балицкого сообщалось:
Он был членом Государственного совета в 1905 г. Были даже разговоры, что в случае свержения монархии Долгоруков будет президентом республики, в 1917 г. он бежал и, как активный враг советской власти, декретом Совнаркома, был объявлен вне закона. После этого Долгоруков связал свою судьбу с монархической эмиграцией.
Здесь нет ни слова правды, но тон совсем другой. Балицкий, известный под прозвищем “гильотина Украины”, готовился к суду основательно. В сообщении же о приведенном в исполнение приговоре нарисован и вовсе зловещий образ:
После разгрома белых эвакуировался с остатками врангелевской армии в Константинополь, где состоял членом врангелевской контрольной комиссии, затем переехал в Париж, где являлся заместителем председателя белогвардейского “национального комитета” в Париже, принимал руководящее участие в зарубежных монархических организациях и их деятельности на территории СССР; в 1926 году нелегально пробрался через Румынию на территорию УССР в целях организации контрреволюционных монархических и шпионских групп для подготовки иностранной интервенции.
Отечество в опасности
Бессудная казнь потрясла Запад. Но никакой официальной реакции почти не было. Разве что посланник Финляндии в СССР Понтус Артти запросил Наркоминдел, по какой причине советские власти не уведомили его об аресте гражданина Финляндии. Ему ответил замнаркома Литвинов:
Упомянутый в ноте Эльвенгрен прибыл в СССР нелегально по румынскому паспорту, иа допросе его следственной властью, при установлении личности,
назвал себя русским эмигрантом, не имеющим определенного гражданства, никогда при допросах на финляндское гражданство не ссылался и никогда не изъявлял ни устно, ни письменно желания обращаться за защитой к Финляндской Миссии…
Я не могу, однако, не выразить своего удивления по поводу того, что Финляндское Правительство нашло нужным интервенировать по делу человека, который н сам не признавал себя финляндским гражданином, поставив целью всей своей деятельности разрушительную работу против дружественного
Финляндии государства, организацию террористических актов против представителей последнего н восстановление того самого царского режима, который в течение почти столетия угнетал финский народ и его культуру и окончательное уничтожение которого Октябрьской революцией положило
начало самостоятельности и независимости Финляндского государства.
Этот обмен нотами был напечатан в “Правде”. Кроме того, председатель Совнаркома Алексей Рыков получил послание от трех лидеров британских социалистов – Джорджа Лэнсбери, Джеймса Макстона и Арчибальда Брокуэя. Они писали:
Взываем к Вам о прекращении казней без суда, они шокируют британское общественное мнение и в особенности дружественное рабочее мнение, мы противимся британской антирусской политике, но казни бесконечно затруднили нашу деятельность.
В своем пространном ответе Рыков утверждал, что вина расстрелянных “доказана документально” и что это вынужденная мера борьбы с оголтелой бандой диверсантов и шпионов. Этот обмен мнениями был тоже опубликован в “Правде”. Окончательную точку в дискуссии поставил Сталин. В статье “Заметки на современные темы” он писал:
Я не могу считать этих деятелей английского рабочего движения врагами СССР. Но они хуже врагов, так как, называя себя друзьями СССР, они тем не менее облегчают своим протестом русским помещикам и английским сыщикам организовывать и впредь убийства представителей СССР. Они хуже врагов, так как они своим протестом ведут дело к тому, чтобы рабочие СССР оказались безоружными перед лицом своих заклятых врагов. Они хуже врагов, так как не хотят понять, что расстрел двадцати “светлейших” есть необходимая мера самообороны революции. Недаром сказано: “Избави нас Бог от таких друзей, а с врагами мы сами справимся”. Что касается расстрела двадцати “сиятельных”, то пусть знают враги СССР, враги внутренние, так же как и враги внешние, что пролетарская диктатура в СССР живет и рука ее тверда.
Никакие расследования, никакие доказательства правительству большевиков были не нужны. О том, что в Войкова стрелял русский монархист, говорилось, как мы помним, уже в советской ноте, врученной польскому послу в день убийства 7 июня. 8 июня Сталин прислал из Сочи шифротелеграмму, в которой эта тема получила развитие:
Получил об убийстве Войкова монархистом. Чувствуется рука Англии. Хотят спровоцировать конфликт с Польшей. Хотят повторить Сараево или, по крайней мере, инцидент с Швейцарией в связи с убийством Воровского…
Всех видных монархистов, сидящих у нас в тюрьме или в концентрационном лагере, надо немедля объявить заложниками. Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов, объявив, что за каждую попытку покушения будут расстреливаться новые группы монархистов. Надо дать ОГПУ директиву
о повальных обысках и арестах монархистов и всякого рода белогвардейцев по всему СССР с целью их полной ликвидации всеми мерами.

Председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский. 1932.
В тот же день Политбюро ЦК ВКП(б) обсудило вопрос “О мероприятиях в связи с белогвардейскими выступлениями”. Мероприятие было решено провести одно: предоставить ОГПУ право вынесения “белогвардейцам” внесудебных приговоров вплоть до расстрела. 9 июня аналогичное постановление принял президиум ЦИК: “Предоставить ОГПУ право рассматривать во внесудебном порядке, вплоть до применения высшей меры наказания, дела: белогвардейцев, контрреволюционеров, шпионов и бандитов”.
Постановление начали исполнять немедленно. Указание вождя перевыполнили вдвое.
Никто в то время не подозревал, что Сталин готовит новый виток насилия. В июле 1928 года он выступит на пленуме ЦК ВКП(б) с теорией об обострении классовой борьбы:
По мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская власть… будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс крестьянства”.
Расстрел двадцати” был своеобразной формой мобилизации населения. Начало 1927 года – это период так называемой “военной тревоги”. Ультиматум Чемберлена и разрыв Англией диплотношений с СССР повлекли за собой пропагандистскую кампанию, в ходе которой граждан СССР убеждали в неизбежности близкой войны.
“Золотой теленок”. Шура Балаганов (Леонид Куравлев): “Товарищи! Международная обстановка… наш ответ Чемберлену…” Режиссер Михаил Швейцер. “Мосфильм”, 1968.
Возможно, кто-то из вождей всерьез верил в военную угрозу. Но в целом тревога использовалась как классический способ отвлечь внимание населения от экономических трудностей и перенаправить негативные настроения на внешнего врага. Этот способ российская власть применяет и поныне. И как похожи нынешние голословные обвинения в экстремизме, иноагентстве и намерении свергнуть существующий строй на инвективы 95-летней давности. Несмотря на ве усилия агитпропа еще в 1932 году, как явствует из справки
ОГПУ о настроениях учащейся молодежи, эта молодежь хорошо помнила имена убийц большевистских вождей и на тайных собраниях декламировала стихи Константина Бальмонта:
Люба моя мне буква “Ка”,
Вокруг нее мерцает бисер,
И да получат свет венка
Борцы Каплан и Канегиссер.
И да запомнят все, в ком есть
Любовь к родимой, блеск во взгляде.
Отмстили попранную честь
Бойцы Коверда и Конради.
(Леонид Канегиссер – убийца председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого в августе 1918 года.)
Польский суд приговорил Бориса Коверду к бессрочному заключению в каторжной тюрьме, однако сразу же ходатайствовал перед президентом о замене пожизненной каторги 15-летней. Ходатайство было удовлетворено. Коверда отбыл 10 лет лишения свободы и был освобожден по амнистии. В 1949 году он с женой и дочерью эмигрировал в США (для чего, кстати, потребовалось специальное решение Конгресса – ведь в документах он значился уголовным преступником, пусть и отбывшим наказание), где и умер в 1987.
Чекисты Лацис и Петерс были расстреляны в марте и апреле 1938 года, первый – на Бутовском полигоне, второй – на Коммунарке.
Председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский долго и мучительно болел (дегенеративный остеопороз позвоночника) и умер от инфаркта в 1934 году. На третьем московском процессе Генриха Ягоду обвинили в том, что он отдел приказ об умерщвлении Менжинского посредством неправильного лечения, дабы занять его место.
Всеволод Балицкий осужден и в тот же день расстрелян в ноябре 1937.
Аркадий Розенгольц и Алексей Рыков были обвиняемыми на третьем московском процессе – по делу “антисоветского право-троцкистского блока”. Расстреляны на Коммунарке в марте 1938.
Одним из четырех защитников Коверды в польском суде был знаменитый виленский адвокат Павел Андреев. В Москве о нем не забыли. В августе 1940 года, когда Литва была присоединена к СССР, за Андреевым пришли. Следствие шло вплоть до начала нацистского вторжения. 23 июня печально знаменитую Лукишскую тюрьму эвакуировали в Горький. Следствие продолжилось. Андреев был расстрелян 16 марта 1942 года в Горьком.
Автор: Владимир Абаринов; РАДИО СВОБОДА
Tweet