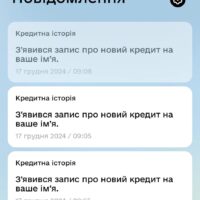Из конвоя – под конвой
Война и неволя всегда были практически неразделимы, а положение пленных воспринималось историками, как своего рода лакмусовая бумажка общего состояния цивилизации: например, летописцы Циньской династии не преминули отметить, что для составления списков знатных военнопленных император Цинь Ши Хуанди отрядил в войска особого чиновника. Чиновники более поздних времен включали в такие списки уже не только полководцев, но и всевозможных армейских “разночинцев” к великой радости исторических романистов, от Дюма до Сенкевича. Дальнейшее развитие гуманизма ознаменовалось принятием Женевской конвенции, Красный Крест озаботился судьбой попавших в плен, стойкость военнопленных стали отмечать медалями, а мужество при побегах боевыми орденами.
Возможно, никогда не поступаться правом на свободу – это и есть та ложка, которой следует запастись всем, кому твердят, что “в Архангельске разберутся”? Пусть она и не самая длинная из всех, но ведь помогла же она боцману Смиту оставить дьявола с носом!
Все это, разумеется, не превратило плен в земной рай, и тем не менее уже к началу Первой мировой мемуары военнопленных заметно отличались от горестных записей летописцев эпохи Тамерлана: “…сдавшихся же потоптали слонами, дабы не тратить припасы войска на прокорм”. Не менялось на всем протяжении истории только одно: шла ли речь о полоненных татарами у Днестра русских князьях, или об англичанах, бежавших из кайзеровского лагеря Кольдиц, – под словом “пленные” подразумевались только воины противника. Угодить в плен случалось и бывшим союзникам, но достаточно редко – слава предателей мало кого привлекала.
Так было до той поры, пока в историю не пришли большевики с их знаменитым “Цель оправдывает средства”. Целью революционной власти было объявлено мировое господство, а предательство стало одним из самых распространенных средств достижения цели. Кто бы ни приглашался большевиками в союзники – крестьянство или интеллигенция, махновцы или бундовцы, “военспецы” или “сменовеховцы”, – все они в конечном итоге оказывались в лагерях либо у стенки. Ни малейшего смущения по этому поводу власть, естественно, не испытывала. И не испытывает: в Питере по сей день продолжает существовать улица Бела Куна – выродка, отправившего в Крыму на казнь десятки тысяч врангелевских офицеров, которые сдались в плен, поверив честному слову новой власти. Цену этому слову разъяснил подельник Куна по расстрельной крымской тройке Георгий Пятаков: “Диктатура пролетариата есть власть партии, опирающейся на насилие и не связанной никакими законами. Если партия для осуществления ее целей потребует белое считать черным – я это сделаю своим убеждением”. Что он и подтвердил в 1937 году, умоляя разрешить ему “лично расстрелять всех приговоренных по процессу, в том числе мою бывшую жену”. На заре перестройки и Кун, и Пятаков были почтительно реабилитированы, как несправедливо осужденные ветераны ленинской гвардии.
Горделивые откровения, подобные пятаковским, постоянно появлялись на страницах советской прессы, и каждое из них звучало для окружающего мира напоминанием о древней истине: тому, кто решится ужинать с дьяволом, следует запастись длинной ложкой. Причем союзы с властью, “не связывающей себя никакими законами”, были заведомо опаснее, чем с дьяволом: тот от выполнения собственных обязательств никогда не уклонялся.
Если бы американскому боцману Освальду Мариону Смиту сказали, что в 1944 году его привел в Молотовск союзнический долг, то, скорее всего, он бы просто не понял, о чем идет речь. Этот двадцатилетний парень из бедной фермерской семьи в Билокси, штат Миссисипи, твердо знал, что на торговый флот он шел в 1942-м с одной-единственной целью: заработать побольше денег для родителей и сестры. Отправляя сына во Флориду на курсы морского резерва, мать сунула ему в карман старенький кошелек, добытый со дна своей шкатулки. “Тут все, что у меня накопилось, сынок”, – смущенно сказала она. В кошельке было 4 доллара 35 центов.
Годичные курсы Смит окончил в числе лучших и сразу же нанялся на танкеры, перевозившие в трансатлантических конвоях горючее для союзной Англии. Выбор юноши был сознательным: немецкие подлодки охотились за нефтеналивными судами особенно рьяно, поэтому повышенный риск для их экипажей компенсировался высокими заработками. После благополучного возвращения из двухмесячного рейса на Глазго матрос с гордостью отправил родителям свой первый заработок: 380 долларов. Согласно контракту, в случае его гибели семье выплачивалась сумма в 5000 долларов, но Смит полагался на свою удачу, веря, что на палубе он сумеет заработать куда больше, чем на дне.
Счастливая звезда не изменяла молодому моряку и в последующих конвоях к британским берегам – теперь он пересекал Атлантику уже в качестве боцмана, которым стал по предложению своего капитана, оценившего сноровку и трудолюбие недавнего фермера. А когда в начале 44-го Смит узнал, что его компания MarineTransportLineнабирает добровольцев в команду танкера, арендованного Советским Союзом по программе ленд-лиза, то подписал предложенный ему контракт без колебаний: конвои в Россию считались самыми опасными и вознаграждались удвоенными премиями за риск.
Транспорты, передаваемые СССР, обычно уходили к портам приписки уже с советскими экипажами, но дизель-электрические двигатели танкеров серии Т-2 были в те годы новинкой, поэтому в судовую роль танкера, впоследствии получившего название “Таганрог”, вместе с нашими моряками включили трех американцев: механика, боцмана и матроса. Механик знал двигатель, боцман – палубные механизмы, а матрос – русский язык. Как показали первые же дни плавания, ключевой фигурой на танкере оказался именно матрос Джордж Боркле, чью киевскую бабушку то и дело поминали добрым словом на всех палубах. Не научи она своего внука языку, проблемы с освоением незнакомой техники оказались бы для нового экипажа куда сложнее. Никаких других трудностей Освальд Марион Смит в рейсе не отметил – все остальное было “как обычно в конвоях”, вплоть до самого момента швартовки у заснеженного молотовского причала.
Неожиданности в жизни трех американцев начались тем же вечером – и какие! Первой из них стал расчет в рублях. Напрасно они показывали капитану свои контракты со строчкой “AllpaymentsareinUSdollarsonly” (“вся оплата только в долларах США”) – ни единого доллара в судовой кассе не нашлось. Визит в администрацию порта они решили отложить до утра, а пока приняли приглашение посетить местный клуб моряков, где им гарантировали теплый прием и хороший концерт самодеятельности. Концерт оказался действительно хорошим, а теплоту приема заметно усилили бесчисленные тосты в честь союзников, фронтовой дружбы, скорой победы над Гитлером и прочих замечательных вещей. Под впечатлением этих тостов троица, не дожидаясь припоздавшего автобуса, в обнимку выбралась на безлюдную Советскую и хитроумными “противолодочными” зигзагами направилась к своему судну. Вместо порта зигзаги вскоре привели их в какой-то неосвещенный закоулок. Там они с хохотом повалились в сугроб и тут же начали вспоминать последний куплет понравившейся всем троим песни про Катюшу.
Столь бурное веселье, дерзко нарушавшее тишину ночного города, привлекло внимание патруля НКВД. Прихваченная из клуба бутылка водки объяснила чекистам причину нарушения куда красноречивее бессвязных русских междометий Боркле, сопровождаемых дружными криками “Ура!”. Без долгих словопрений моряков зашвырнули в кузов крытой брезентом полуторки, где они тут же заснули младенческим сном, свято веря, что находятся на пути к родным каютам.
Наутро их разбудил протяжный паровозный гудок, завершившийся резким толчком. Открыв глаза, они увидели, что находятся в наглухо закрытом товарном вагоне вместе с примерно полусотней мужчин, одетых кто во что, от вполне приличных пальто до ватников и драных шинелей. Эта пестрая толпа сидела или спала на вещмешках, рюкзаках и фанерных чемоданах, схожих со старинными морскими сундучками. Американцы принадлежали к числу немногих пассажиров, ехавших без багажа. Поговорив с соседями, Джордж Боркле сообщил товарищам ошеломляющую новость: за нарушение комендантского часа они угодили в какую-то “рабочую колонну” из Архангельска, отправленную на трехмесячное строительство узкоколейки к югу от Онеги. Бедолаг, очутившихся в вагоне без вещей, при разных (в основном – нетрезвых) обстоятельствах задержали патрули, остальных в принудительном порядке мобилизовали на стройку с прежних мест работы.
Часа через три состав замер на разъезде, где, как пояснил Боркле опытный сосед, “всегда кипяток дают”. Едва в проеме открываемой двери показались станционные здания, как не совсем еще протрезвевший механик с воплем “I’manAmericanseaman, I’manAmericanseaman!” [Я – американский моряк, я – американский моряк! (англ.)] бросился из вагона. Снаружи донеслись крики и брань, а затем, к ужасу моряков, они услышали беспорядочную ружейную стрельбу. Дверь захлопнулась, на скобы вновь с лязгом опустился наружный засов. После томительно долгого ожидания они все же дождались кипятка, но когда Джордж Боркле попытался заговорить с разносившими баки женщинами в военной форме, одна из конвоиров молча потянулась к своей громадной кобуре. Матрос отпрянул.
Так, еще до того как они очутились среди бараков огороженной колючей проволокой стройки, боцман Смит начал догадываться, что в этой “союзной стране” его жизнь – впрочем, точно так же, как и жизнь любого из находившихся с ним в вагоне советского гражданина, – не стоит ни гроша. Попытки “обратиться к мэру города” заканчивались знакомой уже руганью охранников и угрозами применить оружие. Бригадир пожимал плечами: вот закончим работу, контингент отправят назад в Архангельск, а уж там во всем разберутся. Работяги и вовсе не проявляли к ним никакого интереса, предпочитая держаться от “качающих права” иностранцев как можно дальше. Сначала моряки думали, что власти быстро разыщут их по оставшимся на танкере документам. Потом вдруг уверовали, что механик уцелел и расскажет о случившемся недоразумении. Еще какое-то время у них теплилась надежда на судовую компанию, которая обязательно примется их отыскивать. Не могли же их просто вычеркнуть из списков живых!
Могли. Когда в ближайшей к Молотовску союзной миссии в Архангельске был получен отосланный капитаном танкера пакет с удостоверениями трех американцев, там решили, что русские отправили пакет по причине гибели моряков. Миссия уведомила об этом руководство нью-йоркской компании и вернулась к повседневному кругу своих архангельских дел: военнослужащими погибшие не были, а на торговых флотах стран-союзниц от сотен моряков, исчезавших в конвойных плаваниях, часто не оставалось вообще никаких документов…
Тот, кто предположит, что союзным военнослужащим везло в СССР больше, чем “штатским”, ошибется: шансов на внимание собственных чиновников у них было ровно столько же, сколько у боцмана Смита. Когда, например, американский сержант-десантник Джозеф Бейрли, бежавший из фашистского плена навстречу советским армиям, сумел (после доблестного участия в боях вместе с нашими солдатами, ранения и лечения в госпитале, где его навестил сам маршал Жуков), добраться в феврале 45-го до своего посольства в Москве, то наградой ему послужил хладнокровный совет возвращаться на улицу. По официальным данным, Джозеф Бейрли погиб еще год назад во Франции, а тратить драгоценное время на самозванцев в посольстве не собирались. Сержанту удалось “воскреснуть” только благодаря требованию сличить его отпечатки пальцев: как участник десантов в немецкий тыл он проходил в своей дивизии дактилоскопию. “И как это нам самим не пришла в голову такая простая мысль?” – сокрушался чиновник, вручая восстановленные документы обладателю боевых советских и американских орденов…
По прошествии месяца изматывающего труда на полуголодном пайке Смит решил бежать. Не в Архангельск – относительно “там разберутся” у него имелись серьезные сомнения. Географию советского севера боцман представлял довольно приблизительно, но он продолжал неколебимо верить в свою удачу и поэтому вознамерился держать курс на нейтральную Швецию. Боркле от участия в побеге наотрез отказался: ему было далеко за сорок, от усталости он еле добирался до койки, да и стрельба на северном полустанке оставила в памяти матроса такое сильное впечатление, что перспектива лично проверять меткость союзников вызвала у него долгий приступ нервного заикания. “Б-боцман, расскажи обо мне, если доберешься, – шептал он, – но т-ты доберешься, я знаю, ты наверняка д-доберешься!”
И боцман добрался. Правда, не до Швеции, а до оккупированной немцами Норвегии, но переправиться оттуда с помощью подпольщиков в Англию было уже “делом техники”. Главную же роль в успехе побега Смит отвел своей поистине счастливой звезде: без нее саамские оленеводы не смогли бы обнаружить на берегу лесной реки выбившегося из сил человека, повторявшего в полубреду те же слова, которые недавно погубили его механика: “I’manAmericanseaman, I’manAmericanseaman…” Вероятно, саамы тоже не поняли значения этих слов, но их реакция была совершенно иной, нежели у железнодорожных конвоиров. До тех пор пока беглец не очутился в партизанской зоне, охраняемой организацией норвежского сопротивления Милорг, его передавали от стойбища к стойбищу, через леса и границы, держась как можно ближе к соплеменникам и как можно дальше от городов.
Пока боцман Смит совершал рискованные ночные путешествия под вагонами, крал из пристанционного ларька вяленую рыбу и брел через карельскую тундру к западу, по восточным тылам советской лагерной империи путешествовал в 1944 году другой американец. У этого не было необходимости скрываться: вице-президента США Генри Уоллеса, непрерывно восторгавшегося увиденным, возил с прииска на прииск не кто иной, как сам хозяин “планеты Колыма” комиссар госбезопасности Иван Никишов. В своей книге “ГУЛАГ” Энн Эпплбаум приводит поразительный вывод, который Уоллес сделал по окончании колымского визита: “Американцы и русские по-своему нащупывают пути, которые позволили бы простому человеку взять от современных технологий все самое хорошее. В наших целях и намерениях нет ничего непримиримого, а те, кто думает иначе, – преступники”. После таких слов вице-президента Соединенных Штатов упоминать о дьяволе и длинной ложке было бы вопиющей бестактностью. Никто и не упоминал – кому хотелось причислять себя к преступникам?
Посол США в Москве Аверелл Гарриман писал в Белый Дом: “Если мы сохраним хорошие личные отношения со Сталиным, то все подозрения между нашими странами будут устранены”, советник Рузвельта Гарри Гопкинс требовал от американского народа “поверить, что он объединяет свою мощь с мощью Советского Союза ради блага всего человечества”, другой президентский советник Алджер Хисс регулярно снабжал Москву сведениями о планах собственного шефа, а сам Рузвельт был готов поднять тост за расстрел Сталиным 50 тысяч германских офицеров. “Нью-Йорк Таймс” возмущалась злодеяниями вермахта, расстрелявшего в Катыни польских пленных, из Европы в СССР потянулись транспорты союзников, набитые будущими узниками сталинских лагерей. Их страшная судьба лишний раз подтверждала правоту вице-президента США: в его намерениях и впрямь не было ничего непримиримого с намерениями Сталина.
В последующие годы Генри Уоллес, а также его бесчисленные последователи при американских и западноевропейских правительствах удостаивались самых разнообразных оценок – от “великих либералов” до “агентов Кремля”, но, пожалуй, точнее всего их сущность определял известный ленинский термин “полезные идиоты”. Первопричину “полезного идиотизма” можно усматривать в чем угодно – в излишней доверчивости, в циничном политиканстве, в наивном идеализме, но для тех, кому в отличие от боцмана Смита не удалось бежать из-за союзной колючей проволоки, все это оборачивалось внезапным трагическим прозрением: “Им на нас наплевать!”.
Насколько наплевать, стало ясно почти полвека спустя после колымских откровений Уоллеса. 23 мая 1991 года сенатский комитет США по иностранным делам, рассмотрев на основе предоставленных Горбачевым архивов ситуацию с пропавшими без вести и военнопленными, был вынужден признать: “Даже фрагментарный анализ союзнических документов показывает, что около 12 500 американцев так и не были репатриированы с территории, контролируемой Красной Армией”.
Пока преданные “великими либералами” пленники гнили за железным занавесом, на всемирных саммитах как ни в чем не бывало продолжали разглагольствовать о благе всего человечества, значении разрядки, важности хороших личных отношений и прочую “чушь прекрасную нести”. На состояние армии, призванной быть защитницей свободного мира, эта чушь оказала самое разлагающее воздействие. На исходе корейской войны в руки разведки США попал рапорт китайских психологов с поистине убийственной оценкой качеств среднего американского военнопленного: “Американский солдат больше не лоялен по отношению к своей стране. Его концепции справедливости туманны и несформированы. Легко идет на контакт. Неуверен в себе, быстро поддается устрашению. Недооценивает свои силы, свою способность выстоять”.
Только так и ведут себя солдаты, которые уверены, что “им на нас наплевать”. Американские журналы тех лет были полны славословий в адрес аграрных реформ Мао Цзедуна, госсекретарь Дин Ачесон утверждал, что “Корея находится вне нашего оборонного периметра”, генералу Дугласу Макартуру было категорически воспрещено защищать своих солдат от китайских бомбардировок, а когда он выступил с критикой подобных запретов, президент тут же отправил героя Второй мировой в отставку. Подписанный Эйзенхауэром “мир с честью” лишил всякой надежды на освобождение свыше 400 американцев, вывезенных в Китай. Стоит ли удивляться, что целая треть из находившихся в северокорейском плену 7000 солдат впервые за всю историю Соединенных Штатов активно сотрудничала с пропагандистами врага? Для сравнения: ни один из 229 пленных, сражавшихся в Корее в составе турецкого контингента ООН, на сделки с коммунистами не пошел (у Турции не было своих “великих либералов”).
Дальше – больше. Итальянская журналистка Ориана Фаллачи с презрением вспоминает в своей “Ярости и гордости” американского пленного пилота, бросившегося с поклонами подбирать конфеты, брошенные на пол вьетнамским тюремщиком. Френсис Пауэрс, сбитый над СССР во время разведывательного полета, жалобно лепетал на весь мир из московской телестудии: “…сознаю, что совершил тягчайшее преступление и заслужил за него наказание. Я глубоко раскаиваюсь. Несколько минут тому назад я упоминал о срыве совещания в верхах и увеличении напряженности в мире. Искренне сожалею, что причастен к этому”.
Разведчик Натаниэл Хэйл, пойманный англичанами в разгар борьбы Джорджа Вашингтона за независимость от британской короны, тоже выражал сожаление. Но сожалел он в плену совсем о другом: “Жалею, что у меня лишь одна жизнь, которую я могу отдать за Америку!” Достойный сын своей страны, Натаниэл Хэйл не проронил больше ни слова и был повешен. Достойный питомец “великих либералов”, Пауэрс выдал все, что только знал, и получил по возвращении в Штаты 45 тысяч долларов за героизм. Времена явно меняются.
Они меняются, что бы там ни писала наша расстрелянная святая Анна о постоянстве ужасов российского плена: в круговерти нынешних дружеских встреч в верхах, почетных награждений, политкорректных ужинов стало почти немыслимо разглядеть, кто там ужинает с ангелом, а кто там с дьяволом – все как-то на одно лицо. Мода запасаться на всякий случай длинными ложками, похоже, окончательно умерла. Зачем? Какой случай? Да и у кого они теперь есть, эти длинные ложки?
Боцман Смит над такими вопросами не задумывался. Он упрямо шел по тундре к дому, даже в бреду повторяя одно, самое главное: “I’manAmericanseaman, I’manAmericanseaman!” Первое, что он сделал, очутившись в Англии, – рассказал о своем товарище по несчастью. Благодаря настойчивости боцмана, Джорджа Боркле удалось за месяц до конца войны вырвать из лагерной пасти, где навсегда осталось свыше 12 тысяч его земляков.
В 1988 году ветеран торгового флота США, кавалер наград за участие в корейской и вьетнамской кампаниях, штурман Освальд Марион Смит вышел на пенсию. Писатель Томас Симмонс завершает посвященную ему книгу такими словами: “Сам он, конечно, будет это отрицать, но, по-моему, он принадлежит ко множеству незаметных американских героев, которые заслуживают отдания чести уже за то, что никогда не поступались правом на свободу”.
Возможно, никогда не поступаться правом на свободу – это и есть та ложка, которой следует запастись всем, кому твердят, что “в Архангельске разберутся”? Пусть она и не самая длинная из всех, но ведь помогла же она боцману Смиту оставить дьявола с носом!
Ростислав Горчаков, Альманах “Неволя”