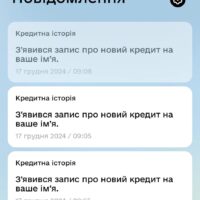Дети полицейских рассказывают о своих отцах: «Все плохое, что в нем было, шло от системы»

Чтобы проверить трюизм, согласно которому «дети ментов ненавидят ментов», журналисты издания «Медиазона» расспросила дочерей и сыновей сотрудников МВД и Нацгвардии России об их отношении к отцам. И вот что они рассказали.
Никита, 17 лет
Отец — следователь, стаж — 20 лет.
В работе следователем есть своя специфика. Понятно, что не все, кто оказывается на допросе, хотят сами что-то рассказывать, и показания приходится выбивать. Таким образом, быть следователем и при этом человеком высоких моральных принципов, довольно трудно. Но в девяностые, когда отец выбирал, куда ему пойти, работа в органах виделась ему исключительно как защита государства, и это было актуально. Именно следователем он пошел после окончания Суворовского училища — его направили в Тверскую область, где он несколько лет подряд разбирался в основном с бандитскими шайками, с которыми особо не станешь церемониться, потому что цель – добраться до главных, до заказчиков.
Я сам придерживаюсь той позиции, что методы следователей жестоки, но иначе никак, особенно, когда вина кого-либо уже по всем пунктам доказана и осталось только выбить одно «да». Если же вина того, кто сидит перед следователем, под сомнением — это уже другой вопрос, и пытки в рамках работы превращаются в насилие. И вряд ли это кого-то волнует, но точно повлияло на папу. Иначе зачем он в один момент уехал в Петербург и попросился во вневедомственную охрану, роль которой в полиции очень ограничена и сводится к охране помещений. Мне кажется, ему хочется все это забыть.
Папа рассказывал мне, что в Советском Союзе для того, чтобы стать полицейским, нужно было пройти множество самых разных комиссий, а сейчас подписи одного психолога достаточно для того, чтобы пойти на службу. Люди, которые пытают кого-то ради собственного удовольствия, больны. И очень жаль, что они когда-то были спокойно допущены до такой работы из-за слабого контроля отбора. Многие ребята из моего окружения, моего возраста, хотят в полицию, потому что это сделать очень легко, и мне не хочется думать о том, кем они могут стать.
Несмотря на то, что я открыт к любому мнению со стороны, где-то светить информацией о том, что мой отец полицейский, я бы не стал. Не все поймут, что в девяностые это слово значило одно, а сейчас — другое, но тем, кто пришел в структуру не один десяток лет назад, сложно сейчас что-то менять в плане своей профессии. Хотя конкретно у моего отца это в какой-то степени получилось.
Надо понимать, что «работать в органах» и «поддерживать власть» — не одно и то же. Еще в 2009 году отец привел меня к себе в кабинет на работе, и над его креслом я увидел портрет Медведева. На мой вопрос «что это за дядя» папа ответил, что это не очень важно: «Они пока с Путиным поменялись, но ненадолго, скоро этот дядя уйдет, а старый вернется». На последних выборах президента он ставил галочку за Грудинина. Более того, если бы я сам придерживался пропутинских взглядов, то столкнулся бы с полным непониманием в своей семье.
В отличие от отца, я хотел бы в будущем воспитывать своих детей сам, а не отсутствовать на бесконечной работе, и давать им больше свободы выбора, которой не было у меня — например, биатлон, на который меня отправили родители еще в пять лет, потому что «ребенок должен расти сильным» и который я вообще не любил, мне разрешили бросить только год назад. Если говорить о ближайшем будущем, то я собираюсь поступать на юридический и работать с законом, но в другой форме, нежели мой отец: пытаться защищать, а не доказывать чью-то вину.
Елена, 19 лет
Отец — участковый, стаж — 15 лет.
Такую профессию папа, скорее всего, выбрал под давлением собственного отца, который сам был полицейским и видел в органах стабильность. И папа, который в юношестве обивал железными листами ледокол «Красин», чтобы заработать себе на новые кроссовки, потому что его диплом краснодеревщика в девяностые можно было разве что выбросить, не мог с ним поспорить.
В детстве я очень слабо представляла, кем работает мой отец. Знала только, что эта работа где-то далеко, занимает очень много времени и период до пятого класса прошел с минимальным присутствием отца в моей жизни. Помню, как сделала ему какую-то поделку и подарила ее с детским, но осознанным пожеланием: «Вот это тебе, а ты давай, чаще бывай дома».
В подростковом возрасте внезапно выяснилось, что папина работа может не только уводить его из семьи. Однажды мы пошли с друзьями в «Карусель», и один мой одноклассник догадался тихо набить весь портфель шоколадом. Понятное дело, что его спалили, и мы всей компанией стояли перед орущей на нас охраной и орали в ответ: «Ну пустите вы его, у него папа строгий!». И тогда мне в голову впервые стукнуло: «Так у меня же папа в полиции, пусть он и разберется!». Через несколько минут после звонка приезжает он и начинается театр: отец делает вид, что оформляет бумаги, сердито берет одноклассника под локоть и уводит. «В участок отвезу, там разберемся». Конечно же, никакого участка не было, одноклассника высадили из «уазика» на следующем перекрестке.
Первый раз на работе у отца я оказалась тоже случайно. Мы украшали класс к Новому году в китайском стиле, я обмолвилась об этом за обедом и папа выступил с предложением: «У меня в кабинете висит японская сабля, забирайте, если надо». Их опорный пункт находится в подъезде обычного жилого дома и выглядит как захламленная, но уютная квартира: в одной комнате кухня, в другой – почти гараж, куда сотрудники складывают все на свете, от книг до старых холодильников, в третьей – папин кабинет. Стол, стул и огромная японская сабля над стулом.
На работу к папе я всегда приходила с самыми важными вопросами –попросить денег, забрать ключи, накачать колеса на велике. Как ни странно, мой приход никогда не мешал рабочему процессу. Может, оттого что папа никогда не хотел мне его показывать.
Участковый – это человек, который чаще всего работает с маргинальными личностями, с теми, кого мы на улицах предпочитаем избегать. В папиной работе очень много страшного. Мне напрямую об этом не рассказывали никогда, обычно это слышишь краем уха из разговора с матерью – о бытовых убийствах, о тощих детях, забытых пьющими родителями в грязных коммуналках, об изнасилованиях. Например, папа рассказывал, как на одном из вызовов, находясь в очередной коммуналке, заглянул в детскую кроватку, а там лежит нечто в соплях, гематомах, но протягивает свои ручки к абсолютно незнакомому человеку, который просто ему улыбнулся или укрыл одеялом. В этой работе много человеческого горя.
Смешными историями папа делился охотно, их меньше, но они есть. Например, поступила заявка (а участковый, увы, обязан отрабатывать все заявки) с заманчивым содержанием: «У меня для вас есть экстренное сообщение, оно срочное и не требует отлагательств, пришлите участкового». Приезжает папа, горячая клавиша ОМОНа наготове. Его впускают, усаживают за стол и кладут перед ним пустой лист бумаги: «Это план захвата России Америкой. Я должен сообщить об этом Путину, но так, чтобы никто не узнал». Папа растерян, но «заявку надо же отработать-то!». Достает из папки такой же лист бумаги, сворачивает в трубочку, протягивает: «Это устройство вам поможет. Вот туда скажете – Путин услышит. Только подождите, пока я уйду, надо анонимно». Провожали тогда папу с рукопожатиями и благодарностью.
Конечно, за семейным ужином эта история звучит смешно, но когда понимаешь, что такой работы у отца навалом – смешно уже в разы меньше. «Ко мне домой кто-то забрался и украл семейную фотографию» — и вот как на такие заявки реагировать? В участках очень много бумажной работы: какой отдел сколько раскрыл, рейтинги. И на заявку, где нужно отыскать семейную фотографию, нужно отреагировать также оперативно и качественно, как на заявку об очередном домашнем насилии.
И оппозиционные протесты отрывают его так же, как и приезд Путина или Медведева. Потому что на трассе, когда приезжает какая-то важная персона, стоят обычные полицейские и участковые. Причем Путин это такой человек, который может сказать, что приедет, а потом берет и не приезжает. Но люди, которые весь день ждали его на трассе, в любую погоду, без возможности поесть или отдохнуть, никуда вообще-то не исчезли. И просто так потратили свое время. Медведева, кстати, наоборот, в полицейской среде очень уважают за пунктуальность.
На Навального в 11 классе я пришла из любопытства, как и многие ребята моего возраста. Смешалось несколько впечатлений: отвратительная погода, переполненное Марсово поле, люди с нездоровым блеском в глазах и черными плакатами, крики в рупоры. На марше Немцова в этом году папа работал, а я стояла. Спасибо друзьям с широкими плечами за то, что мы с ним не встретились и не пришлось объясняться. Не думаю, что мне бы за это влетело, но очень не хочется ссориться и отдаляться друг от друга, особенно когда ты уже вырос и потихоньку покидаешь семью, особенно когда у тебя с родителями вообще разные взгляды на будущее страны. Узнай папа об этом, он бы просто закатил глаза и отчитал: «Это все равно ничего не изменит».
Про жестокое отношение полиции — оно есть. Как-то раз я делилась историей со своей работы, как охранник выпроваживал пьяного гостя, но выпроваживал аккуратно, и папа в ответ ухмыльнулся: «Хорошо, что у нас таких ограничений нет, и когда накипит, на каждой мрази можно оторваться». Но «накипать» есть с чего: когда тебе постоянно угрожают, обзывают, трудно всe в себе держать. Папа ещe и очки носит, а для того типа людей, с которыми он ежедневно сталкивается, очки это признак слабости, значит, человек только и умеет, что книжки читать. И приходится «доказывать» обратное, часто силой. «Разом человек становится шeлковым, и все слова матные забывает, и про очки тоже, — рассказывал мне папа. — Зато резко вспоминает про права, которые только что был готов нарушить относительно меня: наорать, ударить, удрать».
С одной стороны, я его понимаю: столько лет постоянных оскорблений. А с другой не понимаю, ведь это все-таки насилие, и оно не где-то далеко, а в лице близкого для тебя человека. Но от знания, что есть люди гораздо хуже, которые идут работать в структуры с четким намерением доминировать над людьми, мне легче. Я молчу, потому что не смогу его переубедить, скорее он переубедит меня своими жуткими историями, а за 15 лет их накопилось больше, чем моих аргументов.
В детстве мне казалось, что слово «полиция» имеет вес, сейчас же я вижу, что мой папа скорее уставший, даже забитый своей работой человек, которому наоборот хочется, чтобы у полиции было меньше веса, меньше работы. Он не чувствует никакой силы, потому что ее нет, есть только постоянная грязь, которую надо постоянно мести, и злость.
Мне ни разу не было стыдно за то, что мой папа работает в структуре, потому что то, что делает он – это не взятки на верхах, не жесткие избиения на митингах или в колониях. Когда дело касается органов, то надо рассматривать действия каждого человека в отдельности. И мой папа — тот, кто придет к вам, если вас будут доставать шумные соседи или же на вашей лестничной клетке кого-то изобьют.
Я не сомневаюсь, что чем выше должность, тем больше «портится» сотрудник от количества власти в своих руках, но чтобы туда добраться, надо уметь вертеться: многие папины коллеги за годы службы самыми разными способами покидали участок, бешеными темпами работали на количество раскрытых заявок, а не на их качество, лишь бы выбраться туда, где не надо каждый день развозить бомжей и алкашей. Скорее всего, как раз из-за «неумения вертеться» мой папа уже 15 лет разбирается с бытовыми убийствами и никогда не приносил домой зарплату выше 40 тысяч, и умей он «договариваться» так, как это обычно делают в структурах, мы бы съездили заграницу больше, чем один раз за мои 19 лет. Всe это могло быть, но зато сейчас мне за него не стыдно.
Александра Аксенова, 23 года
Отец — сначала сотрудник РУБОП, потом начальник изолятора, стаж — более 20 лет.
Карьера отца в органах началась с простого дежурного на железной дороге, позже он попал в РУБОП. Когда РУБОП развалился, о бывших сотрудниках позаботились, и конкретно моего отца сделали начальником изолятора предварительного задержания в одном из подмосковных городов.
Чтобы добраться до Москвы, где работала моя мама, ей нужно было ехать полтора часа туда и полтора обратно, поэтому, чтобы я не оставалась одна, отец часто брал меня к себе. Там я развлекала себя игрой «в детектива»: копалась в документах, отец в шутку снимал у меня отпечатки пальцев.
Дома мне часто приходилось терпеть своеобразные уроки патриотизма. Из-за того, что многие папины друзья были в горячих точках, а сам отец – нет, у него развился какой-то комплекс неполноценности. Впервые такой «урок» мне преподали в пять, когда отец изрядно выпил и, вопреки запретам матери, включил мне кассету, на которой какие-то моджахеды обезглавили русского солдата. Включил и повторял: «Смотри, это твои враги, смотри, ты должна их ненавидеть, потому что они против нас».
Годам к десяти мать уволилась со своей московской работы и надобность сидеть у отца на работе исчезла сама собой, да и у меня полностью пропал к ней детский интерес. Во время разговоров за столом было трудно отличить реальную историю с работы от байки – отец постоянно сердился, что сотрудники воруют сухой паек для арестантов, потом неожиданно вспоминал, что «кто-то из них опять пытался повеситься, кого-то зарезали, расчленили, надоели».
Жесткие конфликты между мной и отцом начались уже в подростковом возрасте: идеальным ребенком, который всегда ходит в школу, учится на отлично и во всем слушается родителей, я не была никогда. Но, в отличие от моих одноклассников, мне за такие проступки доставалось куда больнее — узнав про плохую оценку, отец мог залететь ко мне в комнату, вытряхнуть все ящики со словами «какая же ты свинья, поэтому так плохо учишься», а потом уйти кричать на мать и обвинять ее в недостаточной строгости.
Иногда доходило до драк. Крики, упреки, пощечины – это в принципе стандартный набор воспитательных средств в обычной патриархальной российской семье, но тот тон абсолютного начальника, которым разговаривал со мной отец во время ссор, тон, из-за которого я ощущала себя подчиненным, а не дочерью, очевидно, выдавал в нем полицейского. Единственной возможностью прекратить конфликт было молчание – терпеть, пока на тебя не устанут кричать. И я терпела. Под конец в комнату приходила мать и умоляла меня пойти и извиниться: «Ну пойди ты навстречу, у него такая тяжелая работа, извинись первой».
Когда стала еще старше и начала интересоваться левой идеологией, ситуация накалилась до предела – на приходящих ко мне в гости панков отец не мог реагировать без крика: «Что это за наркоманы?! Ты что, хочешь стать такой же?». Мои попытки высказать свое собственное мнение заканчивались ничем, потому что начиналась игра авторитетов – кто я такая, чтобы перечить человеку с двумя высшими образованиями, человеку, который на такой работе «столько всего в жизни повидал»?
Прекратить эту цепь унижений мне помогло поступление в колледж в другом городе. Находясь на расстоянии, я еще как-то пыталась поддерживать контакты, пару раз приезжала домой, верила в мысль о том, что «родителей не выбирают, надо их любить такими, какие они есть». А потом разгорелась война в Украине. Родители резко перестали общаться со всеми нашими украинскими родственниками, а я наоборот – поехала туда поддержать протесты. Моя поездка была тайной, но в один из визитов домой мать решила покопаться в моем рюкзаке и нашла билеты. Этот скандал мы уже не пережили, я стала для них «предательницей Родины». Больше мы не разговаривали никогда.
Была одна попытка восстановить связь: когда мне исполнилось двадцать и я ходила менять паспорт в Петербурге, из паспортного стола меня забрали двое полицейских и отвели в участок на «воспитательную беседу». Выяснилось, что я в розыске. Во время беседы следователь всe приговаривал: «Ну как же так, они же твои родители, они тебя воспитали, тебе должно быть стыдно».
Атмосфера была мерзкая – лето, я в открытом платье, видны все мои татуировки, сижу в пункте полиции со всеми задержанными и в мою сторону постоянно летят шутки от сотрудников про «очередную шлюху под стражей». Разговор закончился фразой: «Ну ладно, мы знаем, где ты живешь, будем следить за тобой». После этого случая мне пришлось переехать.
Мне неизвестно, совершал ли мой отец что-то незаконное, но в памяти отложились наши совместные походы на рынок, где у отца всегда были знакомые, которые отдавали товар почти даром со словами: «Спасибо Вам, Эдуард Геннадьевич, спасибо за всe, заходите к нам чаще!». Всe, что я знаю о его служебной карьере сейчас – это проскользнувшая новостная заметка о том, что ему вручили какую-то медаль как лучшему начальнику. К матери я испытываю жалость, а к отцу — ненависть, потому что многолетняя работа в органах обнажила все его самые плохие качества и съела хорошие, это отразилось на моeм взрослении настолько, что сейчас я не могу назвать их обоих своими родителями.
Карина, 22 года
Отец — командир в ОМОН, стаж — 21 год.
В молодости отец увлекался боксом и покорил мою маму тем, что всегда провожал ее до дома, в неспокойные петербургские девяностые. Через год после моего рождения отца забрали в Чечню, так что первые воспоминания о нем – это его полное отсутствие.
Вернувшись, на вторую кампанию он пошел уже добровольно, и в процессе был принят в питерский ОМОН. Отец всегда считал, что война – это последнее, о чем нужно знать ребенку, поэтому рассказывать о ней стал только тогда, когда мы начали проходить всe это в школе на истории, классе в девятом. Сама я о войне никогда не спрашивала – отец потерял там много друзей, оставалось только ждать, когда он сможет рассказать сам. Уже будучи в ОМОН, отец часто бывал на военном задании и в Чечне, и на Донбассе. Вообще, на большинство современных локальных конфликтов на российских границах посылают как раз ОМОН и СОБР – питерский и московский.
Когда папа брал меня на работу, это производило сверхвпечатление: все вокруг серьезные, в бронежилетах, форме, много каких-то армейских шуток, мне абсолютно непонятных. Чувствовалось, что все вокруг – одна большая, слаженно работающая команда, где каждый знает свою роль от и до ещe со времен войны, многие, с кем отец сдружился там, в Чечне, сейчас его самые близкие коллеги. Мужчины вокруг выглядели тогда как идеал моего мужа – все же девочки, предполагаю, видят в отце своего будущего избранника?
Конечно, я никогда не видела отца при исполнении, но были моменты, когда я отчетливо понимала, кто он у меня: например, поехали мы как-то к бабушке, до которой ехать – несколько тысяч километров. И на середине пути выясняется, что боец, который у отца в подчинении, забыл сдать табельное оружие. И мы посреди ночи, посреди пути резко разворачиваемся и едем в Петербург. Помню, что тогда выучила очень много новых слов – когда папа отчитывал того бойца. Наверное, здорово, что я понимала уже тогда, что иначе он поступить не мог.
Отец не совмещает личную жизнь и работу. Даже если он разговаривает о работе по телефону, то всегда выходит в другую комнату – потому что его работа никогда не должна касаться семьи. Единственное, что выдает в моем отце человека служащего, когда он не в форме – армейские шутки. Например, если спросишь у него, как дела, то он отвечает всегда: «Дела как в сказке – чем дальше, тем страшнее». Раньше его группа занималась захватом особо опасных преступников и террористов – каждый раз, когда папа возвращался домой, мы выдыхали. И каждый раз разговор был короткий. «Как прошло?». «Посадили». На этом всe. Захватывало чувство гордости, когда между уроками включаешь телевизор, а там – он, пусть и в маске, но дает интервью о том, как успешно нейтрализовал очередных террористов.
Вначале, еще в детстве, насмотревшись на папиных коллег, я хотела быть полицейским, потом тренером по спортивному ориентированию, просто фитнес-тренером. Каждый раз, когда я подкидывала отцу новую идею насчет моей будущей профессии, он сразу предлагал подумать наперед. Фитнес-тренер? Хорошо, а что делать после тридцати? Спортивный тренер? Но как быть, если вдруг получишь травму? В общем-то так и случилось – в 11 классе я как раз получила травму, и варианты, связанные со спортом, сами собой отпали.
А служба – это стабильность, стабильность в хорошем смысле этого слова. Только при полном разрушении государственного строя служащие пойдут вместе со своим государством вниз. А так любые социальные, экономические волнения органам нипочем. Пенсия, которая будет гарантированно выше, чем у любого гражданского лица. Я учусь в университете МВД, я довольна в выборе своей профессии всем, кроме постоянного ограничения моего личного времени.
Подписывая контракт, еще на первом курсе университета мы ставим свою подпись под тем, что с сегодняшнего дня представляем власть и одновременно ей подчиняемся. И каждый гражданский человек должен понимать, что за неисполнение приказа мы несем дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения. Если мне прикажут «задержать и привезти», а я этого не сделаю, то я пострадаю, человек — нет.
Люди в нашей стране, к сожалению, юридически не подкованы, они почему-то не в состоянии открыть и почитать федеральные законы, чтобы понять, в каких случаях сотрудники полиции или ОМОН могут применить физическую силу. Есть федеральный закон о полиции, есть его пятая глава, статьи 20 и 21 – применение физической силы и спецсредств. Если, например, человек оказывает сопротивление сотруднику при задержании: орет на него, пытается толкнуть – сотрудник в праве отреагировать. Это наша социальная защищенность. Случай из практики отца: подходит к нему женщина на недавнем митинге, начинает толкать в плечо, тыкать в него камерой, кричать. Папа имеет право заломать ее – и он так и делает. В любом факте задержания важна ответная реакция: если толпа или какой-то конкретный человек не реагируют на предупреждения органов, то мы можем действовать реакционно.
Однако не могу спорить с тем, что многие сотрудники, особенно на митингах, перегибают палку. Это происходит на эмоциях: представьте, как вы стоите на службе, а вас со всех сторон закидывают оскорблениями, обвиняют во всех грехах человеческих, кричат на вас – разве это не колоссальное эмоциональное давление? На митингах, как правило, опытны только ребята из ОМОНа, полицейские или росгвардейцы же часто оказываются в такой ситуации впервые, всe-таки массовые беспорядки в России за последние 20 лет – дело нечастое. Многие теряют контроль, пропускают каждое общее оскорбление в сторону структуры через себя самого. И бывают реакции не подзаконные.
Но я ни в коем случае не защищаю того неизвестного сотрудника, который ударил девушку на одном из московских митингов. Даже если вдруг она выбила у него из рук эту дубинку, сотрудник всe равно поступил незаконно, потому как живот – запрещенное для удара место. Локтем в бок, по ногам – другой разговор.
Я убеждена, что на митинги выходить нужно, особенно сейчас, когда стало сложно высказать свою собственную позицию, но при этом мне непонятно, почему столько агрессии и претензий направлено именно на ОМОН или полицию. Мы не решим все социальные проблемы, не понизим обратно пенсионный возраст, не увеличим зарплаты. Мы даже менее способны высказать свою точку зрения, нежели обычные граждане, потому что связаны договором. Да, наша страна должна стремиться к демократии, но как демократии помогут крики «мусора позор России», если мы – лишь отражение власти, но не она сама?
И если агрессию толпы на митингах я понять еще могу, то агрессию локальную – никогда. Столько всяких групп, в которые сливают разную личную информацию о сотрудниках, ищут их детей, угрожают, понятное дело, что в органах этого никто не хочет. Именно поэтому имя сотрудника, ударившего ту девушку, не раскрывают – начнется настоящая травля. Папа настоятельно просит меня не светиться фотографиями в форме в соцсетях, потому что никогда не знаешь, в какой момент превратишься из «защитника правосудия» в «мусора» в глазах этих людей.
Каждый разговор о политике, который сейчас начинается у нас в кругу семьи, заканчивается папиной короткой репликой: «Да, мы боремся за далеко не самую честную власть, за далеко не идеальный мир, но ты представь, какой будет бардак, если к власти придут лидеры этих митингов, которые пока что даже внутри своих собственных движений объединиться не могут? Нам нужно будет еще как минимум 10 лет на восстановление после такого». И я с ним могу согласиться.
Максим Филатов, 28 лет
Отец — начальник уголовного розыска, стаж — 25 лет.
Поездки с отцом по рабочим делам были его особым способом провести со мной время – он заглядывал ко мне и говорил: «Пойдем, покатаемся». Каждую субботу мы вместе ездили на два рынка нашего небольшого города и в четыре руки заполняли машину всякими продуктами. Когда я подрос, то понял, что это были за поездки – отец там крышевал кого-то, и в благодарность эти люди раз в неделю набивали нам багажник мясом и фруктами.
Когда у отца заканчивались деньги – он этого никогда не скрывал от меня – мы снова брали рабочую машину и ездили в район, где живут цыгане. Ожидая отца, я видел из окна всегда одну и ту же картину: отец заходит к цыганам в подъезд, потом крики, оры, и в итоге выходит он, но уже при деньгах.
Весь отдел уголовного розыска, в котором всю жизнь работал мой папа, поголовно уходил в запой, и я видел, как страдает мой папа и как его психика просто на глазах рушится. Во дворе играли с друзьями в футбол, я умудрился упасть и пораниться. Возвращаюсь после игры домой, переодеваюсь, и отец, будучи в пьяном угаре, видит мою рану. «Что это? Упал? Не смей врать, это ты человеку, который столько лет в уголовном розыске, хочешь сказать, что просто упал?! Да тебя ножом порезали! Отвечай, кто!».
О работе отец не любил рассказывать – если я сам что-то вдруг спрашивал, то прямого ответа, как правило, не получал. Знал, что он прошел Афган и Чечню, знал его должность, а впечатление о ней складывалось из увиденного собственными глазами. Иногда удавалось услышать что-то краем уха из его разговоров с коллегами — например то, что, оказывается, многие региональные компании по производству каких-то продуктов под ментами ходят и развиваются. «Сады Придонья» — одна из таких. Отцу персонально его начальство предлагало их крышевать в каких-то вопросах за немалые деньги, но он побоялся брать на себя такую ответственность.
Я сам два года проработал в группе быстрого реагирования: хотелось узнать, как это все изнутри выглядит, на что отец всю свою жизнь и здоровье потратил. Я ушел, когда понял, что мусоров не просто так называют мусорами. Для них бумажная отчетность важнее, чем человеческая жизнь.
О таком, увы, отец мне никогда не рассказывал, а я не был к такому готов. В одно из дежурств мы слышим по рации, что где-то человек из окна сейчас выпадет, бежим спасать. Прибежали, видим мужчину, повисшего на простыне – бешеными темпами вычисляем квартиру, выламываем дверь и затаскиваем его обратно. Затащили и выдохнули – уже спокойно выходим из подъезда под аплодисменты соседей. И радость такая внутри, все-таки жизнь чью-то спасли. После этого нас вызывает начальник, мы все такие же радостные, думаем, что он слово хорошее скажет или даже премию выдаст. А на нас обрушился дикий ор: «Вы почему протокол не составили, где бумаги о вызове? Почему никакой отчетности?! В этом месяце все вы без премий остаетесь, я так сказал!».
Если дома речь заходила о Путине, то слово «Путин» от отца я не слышал никогда, только «Моль» — думаю, этим все сказано. А работал он в органах, потому что умел это делать, а не из-за взглядов. Я встречал многих, кто прошел через его уголовный отдел – и тех, кого он отпускал, и тех, кого закрывал. И никто ни разу не назвал его несправедливым.
Я сам не могу назвать его плохим человеком – не думаю, что человек без сердца усыновит абсолютно чужого ребенка из дома малютки, на все детство оставит это в тайне и воспитает как собственного сына. В 18 лет он поругался с родителями и ушел из дома навсегда – и с грязного матраса в каком-то общежитии поднялся до начальника уголовного розыска с собственной трехкомнатной квартирой. Все плохое, что в нем было, шло от компании на работе, от стресса, от алкоголя, от системы, в которой приходилось как-то вертеться и выживать. А увольнение из органов на отце отразилось кардинально – куда-то исчезла вся агрессия, он стал абсолютно другим человеком, не способным на насилие.
Автор: Александра Лимарева; «Медиазона»