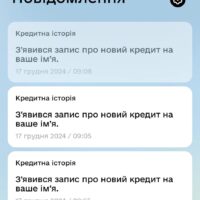Брайтонский пляж. Часть 7: ПОЦ – партия общественного цинизма
Мы лежим на пляже и пытаемся думать. Но как ни пытайся – голова пуста, как биллиардный шар. И по форме, и по содержанию. Голова, как нас учили, – это то, что медленно и неуклонно с годами превращается в свою противоположность, попросту – в жопу, сначала по форме, а потом и по содержанию.
В советские очень лохматые андорповские времена мы развлекали себя таким самодельным стишком:
Прячьте головы, головы прячьте,
Не держите их при себе,
А иначе горько заплачете
По остриженной голове.
Голова- это хуже оружия:
за ношение привлекут,
остригут изнутри и снаружи –
обязательно остригут.
И вот уже остригли. Только не там, а здесь. Как интеллигентные люди мы пытались читать местные газеты и слушать радио, пока не поняли, что этого делать нельзя ни в коем случае – промывают мозги не хуже советских. А они нам нужны, как память о прошлом.
Биллиардные шары так загорели, что блестят на солнце. Мы молчим. Но иногда молчание прерывается звоном мобильников. У каждого из нас мобильник играет одну мелодию. Это «Интернационал»: вставай, проклятьем заклейменный! Но никто не встает. Только наиболее «продвинутые» иммигранты из наших бросаются от этой мелодии, как черт от ладана – боятся «коммунистической заразы».
Те, у кого чувство юмора еще не выветрилось, наоборот, подходят к нам и усаживаются рядом. Так создавалась и теперь растет наша нигде не зарегистрированная Партия Общественного Цинизма, сокращенно – ПОЦ.
Лидером партии у нас является бывший секретарь райкома. Он не еврей, но жена у него правильная. Вывезла его сюда вместе с детьми. И думаете, бывший Генсекс (так мы его называем) оказался не у дел? Как бы не так! Он давно уже работает в…синагоге.
Сначала он там числился шабес-гоем, но набрал силу и вернул себе авторитет руководителя. О таком помощнике наш ребе даже и не мечтал. Генсекс так поставил оргработу, что ребе не нарадуется. Резко возросла численность рядов. Все носят кипы, и Генсекс знает, кто и за сколько блоков от синагоги их надевает. Тех, кто опаздывает, он наказывает отлучением от халявы. Как известно, после субботней молитвы евреи имеют обычай выпивать в подвале синагоги водку «Гордон». Водка хоть и не ахти какая, но прежде всего халявная. Опоздавших к молитве Генсекс к столу не допускает.
Я помню Генсекса «из раньших времен», когда он был еще в полной силе и являлся полным хозяином цветущего района. Район этот был знаменит тем, что расположен в верховьях некогда чистой и быстрой реки Неман. А в еще в «раньшие» времена он был сугубо еврейским. Здесь в каждом местечке жили плотогоны, которые по Неману сплавляли лес в Германию, до самого Кенигсберга. Они все говорили и по-польски, и по-белорусски, и по-русски, и по-немецки, молились на иврите, а меж собой общались на мамэ-лошн. А вся хозяйственная деятельность их была связана с лесосплавом, производством канифоли и всего того, что дает лес. Были здесь мастера конской упряжи, а пролетки, кареты, сани для зимы делались так искусно, что на них ездили самые знатные люди Петербурга. И, конечно, торговали.
От тех евреев и их потомках сейчас в тех краях остались лишь старые заброшенные кладбища, на которых давно уже некого хоронить: Гитлер и Сталин постарались.
Помнится, как в «раньшие времена» мы с другом-профессором истории, прихватив с собой семьи, поехали к Генсексу в район на рыбалку. Усадив в машину и его с семьей, мы помчались в шикарную дубраву, которая раскинулась на берегу Немана. Хозяин достал натуральную браконьерскую сеть, и мы влезли в реку. Раза три прошли неподалеку от берега крутого, и линей, щук, плотвы оказалось не только на уху, но столько, что водители стали делать нам пакеты для дома.
Историк-профессор покачал головой и сказал:
– Ребята, а не кажется ли вам, что мы браконьерствуем?
– Это вам показалось, Сергеич, у настоящих браконьеров другая снасть. И вообще-то можете быть спокойны: нас никто не арестует.
Уже кипел котел с ухой, уже Генсекс бегал с деревянной ложкой и добавлял специи, когда я вспомнил, что на ведро ухи требуется ведро водки. И направился к машине, чтоб подскочить в сельмаг.
– Что ты суетишься, Старик? – остановил меня секретарь. – Сегодня – День работника торговли,- сказал он. – Все магазины закрыты.
– Эх, пропала уха! – горестно вздохнул я. – Мы что, жрать сюда приехали?! Уха без водки и не уха вовсе.
– Что поделаешь? Праздник!
– И ради тебя они что – не могут на полчасика открыть лавочку? Ты хозяин в районе или где? – кипятился я.
– Вот кто хозяин! – сказал секретарь и показал на дорогу, по которой пылил милицейский «козел».
Я стремглав бросился прятать сеть. Она, как на зло, была тяжелой и мокрой, справиться с ней я не мог никак.
– Брось! – закричал мне секретарь. – Иди сюда! Это не Рыбнадзор. К нам начальник милиции едет. Собственной персоной. И прокурор, – добавил он, когда милицейский «козел» остановился, а из него вышли двое. Это были молодые и крепкие мужики, которые принялись тут же выгружать тяжелый ящик.
– Вот и горючее прибыло, а ты так волновался. Пошли поздороваемся.- Секретарь пошел к прибывшим, видимо, рассказывая им о том, как я их испугался.
– Пошли быстрей знакомиться, а то письменник волнуется о защите природы и об отсутствии водки, – услыхал я.
Вскоре опять пришлось знакомиться. Не успели мы пожать руки, как на дороге появился еще один «козлик», но не с красной полосой, как у милиционера, а с синей и белым крестом с надписью «Ветеринарная помощь». А из него вышел натуральный местечковый еврей. С возгласом «Что за уха без петуха?!» он начал выгружать всевозможную снедь. Затем расстелил сказочную скатерть-самобранку. Чего там только не было! И помидоры, и «пальцем пханая» колбаса, и зеленый лук, и черт его знает что, но все невероятно съедобное и вкусное.
– Ну, так теперь понял, кто в районе хозяин? – спросил секретарь. – Если понял, то зови женщин и детей.
Надолго запомнилась та уха на зеленой траве под столетними дубами. Под уху сколь ни выпьешь, вседа кажется по-хорошему мало. В речку влез, окунулся с головой – и всё сначала. А о чем говорили, – вылетело из головы начисто. Зато картинка этого пикника осталась в памяти. Она почему-то схватывает всякую мелочь и держит ее, как железобетон. Да и кто бы подумал тогда, что судьба сведет нас на бордвоке и на пляже у кромки океана, так не похожего на берега батьки-Немана. Что будем мы тут лежать и хором вполголоса петь идиотские песни о Буденном, о Сталине и Ленине, о комсомоле молодыми голосами, удивляясь, как эта зараза вцепилась в подсознание – ведь все слова помнятся. Лучше бы это место в мозгах осталось для английского, который никак не хочет вмещаться в седые головы, которые забиты намертво кумачовой лебедой на слова Лебедева-Кумача.
ЧТО ПОСМЕЕШЬ, ТО И ПОЖМЕШЬ.
Заранее вооружившись многосемейными трусами и свернув с бордвока, мы прошли сотню метров по горячему песку и расположились нестройным рядом у самой кромки океанской воды. Прибой накатывался на наши разгоряченные тела, а мы размышляли о том, что видели.

Что видит уставший от жизни человек на горячем пляже? О, он много чего видит! Первое, что само лезет в глаза, – прекрасные тела местных амазонок. На дряблые телеса брайтонских матрон мы принципиально не смотрим и ничего не видим. Зато стройные фигурки и ходовые части молоденьких дам не умещаются в глаз. И мы их обсуждаем с видом знатоков и джентльменов. Для каждой ходовой части у нас свое определение. Самые красивые и упругие округлости условно называем саквояжами, те, что слегка подкачали по формам и вышли за пределы, называются чемоданами, те, что попроще – кошелками, даже авоськами. Купершток предложил называть некоторые рюкзаками, но это определение было решительно отвергнуто, потому что носить гузно за спиной поэтически неточно.
Нет, не такие уж мы старики, чтоб не восхищаться! И не любопытствовать. Шляпентох сказал, что мы старые лезбияны, и это было принято на вооружение.
Мы старые грешники. Точно знаем, что в рай не попадем. Пора бы уже подумать, в каком из кругов ада окажемся за грехи наши тяжкие: то ли в геене огненной, то ли в ледяном и тухлом болоте. Но это могут только себе представить законченные алкаши и наркоманы, а мы не такие. Знаем только, что монстры и бесы по виду и внутреннему содержанию похожи на людей, а среди оных безгрешных просто не бывает. И начинаются бесконечные самодельные теории о странностях любви.
Все самое лучшее в мире создано на основе любви. Если бы удалось сублимировать энергию любви в электрическую, да еще к этому бы добавить энергию скрипа кроватей, не надо было бы сооружать в горах Швейцарии адронный коллайдер.
Любовь пронзает пятки. Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки, равно как и любовь. И возвращается ветер на круги своя. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Поэтому женщина – лучшее творение бога. Видимо, потому, что она создана из другого материала: ребро Адама благородней, чем глина.
В связи с этим поговорим о полицейских и милиционерах. И о любви.
Вы можете себе представить читающего полицейского? Или, на худой конец, милиционера? Тяжело, правда? Даже человеку с поэтическим воображением сделать это непросто. Ну и сколько поэзии в полицейском? Или в «Дяде Степе»? Сие по силам было только Михалкову. Но ему и гимны были под силу: возвеличивать то, чего не бывает.
Полицейские умеют читать только чековые книжки. Преимущественно чужие. Есть даже анекдот о том, как милиционеры, соблазнившись и поверив плакату «Книга- лучший подарок», решили подарить своему товарищу на день рождения книгу. А начальник милиции возразил: я был у него дома и видел, что книга у него уже есть.
Вообще об умственных способностях полицейских и милиционеров сложено немало легенд и анекдотов: о том, как восемнадцать мильтонов вкручивали одну лампочку, о том, как ОМОН в полном составе проводил на тонком льду следственный эксперимент и весь утонул, как мильтоны придирались к телеграфному столбу, который держал связь с заграницей, о том, как нанимались на службу, которая и опасна, и трудна.
Умные люди работают в милиции-полиции. Но воры всегда умнее. У человечества давно уже в крови привычка: при виде полицейского или милиционера переходить на другую сторону улицы. Не все же они выпускники академии. Стражи эти за порядком не следят, а беспорядок их не касается. Но бывают исключения, когда полицейские и воры чудесным образом совмещаются в одном флаконе.
Не так давно федеральный суд Бруклина приговорил к пожизненному заключению двух офицеров полиции: Луис Эпполито и Стивен Каракаппа неплохо подрабатывали у тех, с кем по долгу службы должны были бороться. Служили они, помимо полиции, в мафиозном клане. За свою верную и надежную работу на итальянскую мафию семьи Лукьеззо они получали гораздо большее жалованье, чем за полицейскую службу – по 4 тысячи долларов в месяц. Курировал их бандит по кличке Газопровод – Энтони Кассо. Оба полицейских чина оказались причастными к восьми убийствам, за каждое из которых получили отдельную плату. Вот вам и «оборотни в погонах», хотя нью-йоркские полицейские никаких погон не носят. Но интересно другое: они далеко не дураки и не обделены творческим даром.
Продажный офицер полиции был отнюдь не идиотом, который не знает, как забивают гвоздь. Он еще был известен, как киноактер, и в Голливуде знали его как актера второго плана. Он сыграл эти роли в боевиках «Хорошие парни» и «Пули над Бродвеем». В фильмах он исполнял роль «хорошего парня» – полицейского. Ведь находясь на службе, он тоже был в другом амплуа.
Но и это еще не все: Луис Эпполито – потомственный мафиози, отец которого был членом криминального клана Гамбино. Заодно он был и писателем: его перу принадлежит книга о трудной жизни честного парня, который встал на защиту справедливости и законности.
Оказывается, что и полицейские-бандиты – люди не бесталанные. Но жизнь полна противоречий и неожиданностей: человек в форме вполне может оказаться и бандитом, и хитроумным изощренным убийцей. Когда федеральный судья Джек Вайнштейн оглашал вердикт полицейским-убийцам, он, привыкший ко всему, сказал: «Эти полицейские, предавшие свою форму, совершили одно из самых отвратительных преступлений, с которым я когда-либо сталкивался в своей практике». А ведь все эти преступления были совершены исключительно с добрыми намерениями: помочь своим.
НАГОТА НЕЖНЕЙШЕЙ ПЛОТИ
В моей практике была однажды длительная командировка на «зону», в которой сидели прекрасные дамы, осужденные за убийства. Мне было интересно узнать и влезть в душу тех, кто предназначен давать жизнь, а они ее отнимали. Конечно, зэковская форма непривлекательна. Здесь ни шалей, ни вуалей, ни легких накидок, из-под которых угадываются точеные фигуры, хранящие тайну женского обаяния, не могло быть. И я шел как бы сквозь чащу мертвых лир и вспоминал мандельштамовские строчки:
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит.
У них у всех, как утверждал поэт, от мутного яда отуманилась голова. Ланиты давно утратили способность краснеть «под бременем святого ремесла».
Но у некоторых были такие божественные лица, о которых можно было писать такие, как у Мандельштама, строки. Даже не верилось, что эти дамы, работавшие в швейном цехе по производству солдатских кальсон, с прекрасными, а то и просто ангельскими лицами, способны на злодейство, порой просто необъяснимое с точки зрения человеческой логики. Это даже был не цех, а целая фабрика с технологами, мастерами, бухгалтерами-учетчицами. Помимо убийц, там работали очаровательные воровки, мошенницы, бандерши подпольных бардаков, артистка кино, несколько артисток областных театров.
У одной такой обаяшки я спросил: «А вы как сюда попали?». «Хахаля своего грохнула: плохо просил и ничего не умел. Согласитесь, что импотентов следует убивать», – смеялась она.
А та, которая привлекла меня особо, именно из-за нее я и приехал в это страшное место, была доцентом кафедры научного коммунизма. Вначале ее приговорили к расстрелу, а затем заменили высшую меру на 25 лет. Она убила жену своего заведующего кафедрой, в которого влюбилась. Убила изощренно – не только соперницу, но и двух ее детей, и собаку-овчарку. Из-за любви.
Мне казалось, что такого уже в наши дни быть не может. Но было. Тихая такая женщина, красивая. На зоне она была библиотекарем, поскольку к физической или иной другой работе была решительно неспособна. Хрупкая такая, ей бы на балах танцевать что-нибудь старомодное. Мы сидели с ней в тюремной библиотеке часа три, и она спокойно и бесстрастно, словно исповедуясь, рассказывала мне, как влюбилась, как поняла, что он – ее судьба, как писала под его руководством докторскую диссертацию, как душила огромную овчарку ремешком своей сумочки, а затем сбросила мертвую собаку в колодец, как заколачивала двери дачи вместе с сообщником-студентом, который был в свою очередь влюблен в нее, как они старались перекрыть все возможные выходы из дачного дома, чтобы никто не мог из него убежать, как сама подожгла этот дом и смотрела, пока пламя поностью не охватило дом, где сладко спали ничего не подозревающие жена профессора и двое его малолетних детей. Потом рассказывала, как сидела в камере смертников в ожидании расстрела, как носила клетчатую робу смертницы, переживая, что она ей совсем не к лицу.
Крутился диктофон, записывая исповедь убийцы, но только потом я понял, что ничего про нее не напишу, потому что это была тема для Достоевского. А она вдруг перешла на литературу, и я забыл, что сижу рядом с убийцей, что вокруг – вышки с вертухаями, что везде колючая проволока, что это зона для отъявленных убийц. Пару раз к нам заходила женщина-полковник – начальница колонии с резиновой дубинкой, висящей с особым шиком на огромном бедре – здесь все начальницы так ходили. Магия слова, магия красоты, не изуродованные зековской робой с полоской, на которой начертана была фамилия осужденной, и это хрупкое существо, набитое литературными образами, поэзией, философскими концепциями, – существо, способное убить. Это было нечто необъяснимое и непостижимое. Потом доктор зоны показывал мне предметы, которые глотали осужденные, чтобы покончить с собой, изувечить себя. От этого мне стало плохо, и я потерял сознание, очнувшись на койке в больнице зоны, больнице с зарешеченными окнами. Постепенно приходил в себя, не соображая, как я оказался в тюремной больничке.
Доктор-майор налил мне стаканчик спирта, и я окончательно пришел в себя. Нет, не смог бы я тогда ничего написать об этом, хотя летел сюда самолетом. До сих пор не могу понять, как женщины, созданные богом для продолжения рода человеческого, могут покуситься на этот род. Как проникнуть в эти мозги, вывернутые наизнанку, чтобы все рассмотреть и рассказать?
Там мне показали еще одну старуху, так и состарившуюся на зоне. На ее счету было много загубленных душ, сидела она пожизненно, но была жизнерадостной и даже веселой в этой юдоли печали.
Полицейские книг и газет не читают. Но бывает, что пишут. Вспоминая свои былые походы периода перестройки, вдруг подумалось: а хорошо бы, если бы носители дубинок и табельного оружия вдруг заглянули в нью-йоркские русские газеты. Хотя бы в одну из них – самую толстую и мусорную. Там столько хорошо плохо замаскированных преступлений, что просто диву даешься, как их до сих пор не раскрыли. Удивительная вещь: в США проституция официально запрещена, есть только один штат, где она легализована – Невада. Не зря там ядерный полигон. Зато сколько всевозможных эскорт-сервисов, ночных клубов, массажных салонов, подпольных борделей!. Можно съездить с временной спутницей в Атлантик-Сити и поиграть там не только с однорукими бандитами, а в совсем другие игры. Лас-Вегас тоже ничего для этого дела, а Флорида лучше. Коль поедешь во Флориду, не бери с собой фригиду. У одной моей знакомой бабуси, когда она сдавала экзамен на гражданство, спросил иммиграционный чиновник, не занималась ли она проституцией, на что восьмидесятилетняя бабуся бойко ответила по-английски:
– Я только сейчас для этого созрела!
Хотя с иммиграционными службами шутить не принято, но даже чиновник рассмеялся, оценил шутку и извинился за то, что обязан задавать подобные вопросы.
(Окончание следует)
Владимир Левин, Нью-Йорк, «Мы здесь»
Tweet