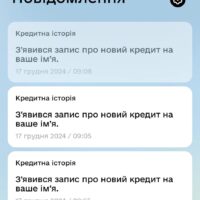Чуть-чуть тюрьмы в пристойной биографии. Тюремные записки
Еще вчера рано утром я плыл по голубой дорожке лучшего в городе бассейна свой обычный километр, потом спешил в отглаженном костюме на работу, обсуждал на редакционной летучке план очередного газетного номера. Все это было ВЧЕРА… А СЕГОДНЯ – я в камере милицейского изолятора на узкой и коротковатой железной койке.
На матрасе, давно потерявшем форму и цвет. Матрас прикрыт когда-то клетчатым, также утратившим цвет, одеялом. Налицо и все прочие атрибуты тюремной обстановки – маленькое, прикрытое жалюзи, окошечко с тремя рядами решетки, железная дверь с форточкой для подачи еды.
Только не это главное. Главное – несвобода. «Нельзя» и «не положено» – два приговора практически на любое мое «хочу». Неужели для меня сейчас, как по В. Высоцкому, «можно только – сны»?
Жуткая метаморфоза произошла со мной за последние сутки. Очень хочется верить, что все изменится, все вернется на свое место. Вот только, сколько времени и сил на все это потребуется?
***
Обстановка камеры нисколько не удивила. Все выглядело так, как и представлял ранее. По книгам, кино, рассказам хлебнувших тюремного горюшка собеседников. Четыре кровати, стол, лавка. Все наглухо приварено к полу. На стене – металлический шкафчик. Умывальник. Отхожее место – канализационная дыра на небольшом пьедестале. Подобным образом выглядят туалеты на базарах и вокзалах в глухой российской глубинке.
Наверное, по-другому и не может выглядеть камера в казенном доме в моем многострадальном Отечестве.
***
Пространство, на котором я сейчас нахожусь, совсем небольшое, да что там говорить, откровенно куцее это пространство. И каждый предмет, находящийся в этом пространстве, непременно напоминает о том, что… это пространство НЕВОЛИ, пространство НЕСВОБОДЫ.
И предметы-то эти по пальцам пересчитать можно.
Смотрю вперед – прямо передо мной железная дверь с форточкой и «глазком». Пожалуй, самый что ни на есть типичный, почти международный символ тюрьмы. Скользнул взглядом чуть вправо – там умывальник и место, предназначенное для оправления естественных надобностей. Чуть повернул голову – во всей красе видны лавка и стол. «Мебель» сварена из массивных металлических уголков и приварена к полу. Все непоколебимо и фундаментально.
Вот только что должна подчеркивать эта фундаментальность? Неотвратимость наказания за преступление»? Или ничтожество (а вдруг даже и никчемность) каждого сюда попадающего человека? А может быть, попадая сюда, человек вообще перестает быть человеком, а превращается (кто-то плавно и последовательно, кто-то резко наотмашь) в какую-то составляющую этой обстановки? В дополнение к этим железякам и нужнику?
***
Кстати, про обстановку.
Наверное, на «автомате» срабатывает профессиональный журналистский инстинкт. В очередной раз оглядываясь, пытаюсь выцепить из этого убогого пейзажа самое, типичное, самое характерное, самое главное.
Конечно, это окно! Именно на нем я споткнулся взглядом, когда впервые осматривал панораму своей НЕСВОБОДЫ.
Знатное окно! Три решетки разных видов. Плюс жалюзи, пластины которого развернуты так, что ни солнца тебе, ни неба. Стоп… А может быть, не окно здесь самое главное, а… все-таки дверь, которую я недавно был готов возвести в международный символ тюрьмы?
Дверь… Дверь… Дверь…
Железная, крашенная в унылый серый цвет, дверь.
Впрочем, нет… Не дверь, точнее не вся дверь, а главная ее составляющая – глазок. Он очень часто открывается. Иногда с каким-то щелчком и нездоровым скрипом. Иногда совершенно бесшумно, а потому как-то зловеще. Когда он открывается, в нем появляется чей-то глаз. Бесцветный. Бесполый. Всегда внимательный и недобрый, возможно, даже хищный.
Кажется, благодаря этому глазку дверь живет своей самостоятельной жизнью. Или глазок сам по себе живет своей жизнью?
А может быть, и дверь и глазок – это часть тела какого-то неведомого и, конечно, недоброго существа, животного, хищника? Еще чуть-чуть, и начнет казаться, что серое пространство двери шевелится, мерно вздымается, будто зверюга этот дышит.
Отдышится… Осмотрится… Дальше что? Охота? Обед? Борьба за куцее пространство? В любом случае человеку, что здесь находится, незавидная участь выпадает. И бежать ему некуда, и обороняться нечем, и помощи просить не у кого.
Впрочем, я здесь не один. Кого выберет серый зверюга?
Наверное, со стороны совсем ненормальными такие мысли представляются. Неужели резкая смены СВОБОДЫ на НЕСВОБОДУ нанесла такой ущерб моему разуму? Выходит, тронулся? Какой щедрый подарок тем, кто меня сюда спрятал! Да и рановато что-то. А с какой, собственно, стати?
Надо взять в руки и себя, и сознание свое, и все, что в нем творится, а всякие литературно-философские изыскания со всеми параллелями и ассоциациями надо гнать подальше. Не до этого!
И не фига по сторонам зыркать! Камера как камера! На земном шаре до сего дня полно стран и мест, где человек, угодивший в мою ситуацию, просто оказывается в каменном мешке, а то и в… яме, накрытой решеткой. А тут все-таки кровать с матрасом, водопровод и даже канализация.
***
В очередной раз меряя камеру шагами, вспомнил некогда рожденный в недрах ГУЛАГа афоризм-лозунг-установку: «Не верь! Не бойся! Не проси!» Очень искренние, по-хорошему жесткие, честные слова. Но ко мне они, кажется, никак не относятся. Это лозунг борца-одиночки, человека сильного, незаурядного, но все-таки очень одинокого человека. У меня совсем другая ситуация. Да и сам я, надеюсь, другой. Мне ближе лозунг: «Верь! Требуй! Побеждай!» Хотя звучит как-то нескромно.
***
Опять откручиваю назад ленту вчерашней хроники.
Допросу предшествовал обыск в квартире. Не лучшее занятие – наблюдать, как незнакомые и, чего там лицемерить, малоприятные люди шастают, не сняв башмаков, по твоему дому, бесцеремонно копаются в твоих вещах, небрежно ворошат то, что для тебя дорого, что связано с личным и сокровенным.
Наверное, надолго запомню молодого опера, кому выпало обыскивать книжный шкаф.
Разумеется, на стул, чтобы дотянуться до верхних полок, он попытался взгромоздиться, не сняв ботинок. Правда, мои возражения принял, обувь снял. Даже проглотил без комментариев, когда я демонстративно подстелил на стул газету (это чтобы обивка стула потом не пахла так, как пахли его носки).
Книги опер осматривал как автомат. То ли опыт сказывался, то ли последствия серьезного инструктажа. Ни одного лишнего движения: только разворачивание книги веером (не спрятано ли что-то между страницами), только ощупывание переплета (не заткнуто ли что-то туда).
Работал он четко, а потом… сбой. Это потому что пришел черед тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона осматривать (шикарное репринтное издание, лет десять тому назад купил). А там гравюры и прочие картинки. Вот он ими и увлекся. Вместо десяти секунд у него теперь на каждый том несколько минут стало уходить. Может быть, в этот момент в нем когда-то загубленный библиофил проснулся или просто безкнижное трудное детство молодой человек вспомнил.
Разумеется, странное поведение опера незамеченным не осталось. Сначала старший, которым всем обыском руководил, ему замечание сделал, потом еще раз, уже в более жесткой форме, потом вовсе с «книжной позиции» снял – отправил на кухню кастрюли и банки с крупами перебирать. Книги стал уже другой опер осматривать. Тот на картинки уже не реагировал. Действовал как надо, исключительно по инструкции. Мне даже показалось, что он был твердо уверен, будто книги существуют исключительно для того, чтобы одни люди в них что-то коварно прятали, а другие это «что-то» доблестно искали.
***
Кстати, что искали в моей квартире? Чемодан фальшивых денег? Схему возможного подкопа под Кремль? Адскую машину с изрядным запасом динамита? Получу ли я когда-нибудь исчерпывающий ответ на эти вопросы? Не уверен.
Хотя, похоже, то, что требовалось найти, они все-таки нашли.
Где-то в середине обыска опер, двигавший ящики в шкафу, почти торжественно изрек:
– Вот!
И помахал в воздухе целлофановым пакетиком, в котором что-то зеленело.
Короче, «обнаружился» в моем жилище пакетик с марихуаной.
Не до смеха, конечно, но все равно смешно. «Обнаружили» в моем доме подростковую «дурь»! Несусветная глупость! Могли бы что-то посолидней, в соответствии с возрастом и социальным статусом подобрать. Тот же кокаин, пресловутый «порошок», он же «кокс», куда бы «логичнее» смотрелся в этой ситуации.
По большому счету «находке» не удивился.
Не только в криминально-уголовных кругах, не только в «околомилицейских сферах», а во всем нынешнем обществе известно: люди в погонах часто подбрасывают своим «оппонентам» наркотики, патроны и прочие «штуки» позволяющие одним изобличать последних как антиобщественных элементов, которых непременно надо изолировать, посадить, «закрыть». Разумеется, никакими приказами и распоряжениями это не расписано. Более того, когда милиция «прокалывается» и «нескладуха» с наркотой и боеприпасами становится достоянием гласности, незадачливых провокаторов в погонах наказывают, порою даже изгоняют из органов. Только последнее – скорее как раз то исключение, что жирнющей чертой подчеркивает общее, не красящее все наше общество, правило.
Как оценивать факт обнаружения пакетика с зеленым содержимым в моей квартире? Наверное, присутствуют здесь два аспекта. С одной стороны, это знак того, что все «очень серьезно» (наркотики будут использованы для того, чтобы меня окончательно скомпрометировать и непременно «закрыть»). Для меня это несомненный минус.
С другой стороны… Если «органы» отважились на использование такого кондового метода, что уже стал темой анекдотов и прочей социальной сатиры, – значит… не все у них в порядке с доказательной базой, значит, из дела, которое только затевается, уже вовсю торчат белые нитки. Разумеется, это для меня несомненный плюс [ У пакетика «с зеленой требухой» сложилась своя история. Сначала «серьезная» экспертиза признала, что внутри действительно находится «наркотическое вещество растительного происхождения». Потом этот пакетик был отправлен на какую-то другую, еще более серьезную экспертизу аж в Петербург. Оттуда пришел более чем официальный ответ, который я читал накануне суда, знакомясь с материалами дела (копия снята и сохранена для семейного архива. – Б.З.) Ответ гласил, что в пакете действительно находится марихуана, но на пакете «отпечатков пальцев подозреваемого» (то есть моих отпечатков, моих пальцев) «не обнаружено». Выходит, пакет с «дурью» кто-то неведомый то ли пинцетом, то ли посредством телекинеза взял да и перенес в ящик моего стола. Тем не менее это несуразное, если не сказать идиотское обвинение (приобретение и хранение наркотиков), «дожило» до суда, присутствовало в приговоре, было учтено при вынесении этого приговора.С «наркотической темой» приговор просуществовал целых четыре месяца. Потом… Потом «тему» сняли. Стыдливо, если не сказать, воровато. С еще более идиотской формулировкой: «за отсутствием состава преступления…»Разумеется, никаких объяснений, тем более извинений при этом не последовало. С «последним» в ведомстве, которое стряпало мое дело, очень напряженно. ].
***
Еще характерная деталь моего СЕГОДНЯШЕГО быта: свет в камере не гасится круглые сутки, накрываться с головой запрещено. Плюс ко всему, то и дело лязгает с наружной стороны двери железяка, прикрывающая «глазок». Это значит, что находящийся в коридоре дежурный милиционер отслеживает все, что происходит в камере. Только что здесь может происходить? Такое убогое пространство просто не предназначено, чтобы здесь что-то происходило. Похоже, все так и задумано.
***
Кажется, уже пора привыкать к реальности: я в камере милицейского изолятора на Петровке, 38. Сколько фильмов довелось посмотреть, сколько книг прочитано, где фигурирует этот адрес. Да что там кино и книги! Сколько раз в своей жизни проезжал и проходил мимо, даже не присматриваясь к корпусам с характерной чуть нелепой архитектурой. По иронии судьбы от этих корпусов до моей квартиры в Головинском переулке минут двадцать очень неспешной ходьбы. Что-то около километра. И кто бы мог подумать, что может грянуть в биографии момент, когда этот километр станет непреодолимой дистанцией.
***
Откуда-то изнутри, из потаенных недр собственного сознания, возникает то ли сокровенный совет, то ли очень жесткая установка о том, что сейчас очень важно спланировать время, подчинить организм и разум особому ритму, графику, порядку. Уверен, тогда лучше будут решаться возникающие проблемы. Только так можно будет сохранить здесь здоровье, рассудок, присутствие духа. Уже пытаюсь выстроить что-то вроде распорядка дня. Утром – обязательно зарядка. После общей разминки, приседаний, ходьбы на месте – непременно тяжелая нагрузка. Наверное, для этого лучше всего отжиматься на кулаках – два, нет три раза по пятьдесят раз. Через пару недель этот объем надо будет увеличить вдвое.
Написал «пару недель» и… вздрогнул. Неужели мое пребывание во всем этом скотстве настолько затянется, неужели так трудно разобраться в ситуации, по итогам которой редакционное кресло я сменил не по своей воле на железную, скрипящую и лязгающую при каждом вздохе койку.
Наверное, в этой ситуации надо исходить из самых худших вариантов развития ситуации. Потому и готовиться надо к самому неблагополучному варианту развития событий. Потому и нагружать надо не только тело, но и мозг. Пора заняться основательной проработкой своего дела, штудировать юридическую литературу.
А еще надо вести дневник. Дневник особенный. Основное внимание уделять в нем не только самим происходящим событиям (впрочем, какие здесь, в четырех стенах события), а собственным ощущениям, наблюдениям, ассоциациям, может быть, даже снам.
Вдруг из всего этого удастся сделать книгу? Очень личную, очень искреннюю, и вдруг для кого-то даже полезную.
***
Очень часто мою руки. Утром, вечером, после туалета, перед едой, после еды, после того как приходится что-то трогать в камере и по прочим, порою совершенно пустячным поводам. Похоже, причина перманентной самодезинфекции вовсе не брезгливое неприятие окружающей обстановки, а необычайная тягучесть времени в местных условиях. Время в изоляторе не идет, не движется. Оно стоит, точнее нависает. При этом агрессивно прессует, давит, плющит. А тут мытье рук – хотя бы какое-то разнообразие в убогом распорядке. Соответственно, и качество этого процесса здесь совсем иное. Тщательно намыливаю ладони, запястья, потом пальцы, каждый в отдельности. Смываю и еще раз повторяю всю процедуру.
***
Человеческая воля не всесильна. Не надо лицемерить – отчаяние обязательно будет посещать человека, угодившего в ситуацию, схожую с моей. Оно просто не может не посещать. Другое дело – как относиться к этому состоянию. Иногда мне кажется, что я почти выработал универсальную форму отношения к нему. Почти рецепт, без пяти минут ноу-хау. При первых признаках появления отчаяния я максимально расслабляюсь и почти полностью открываю этому гнусному чувству свой мозг, сознание, сердце. Я имитирую полное поражение, паралич воли, нежелание и неспособность к любому сопротивлению. Еще немного, и я начну верить, что адвокатские хлопоты тщетны, поддержка с воли эфемерна, что грядущий, наверняка громкий процесс неминуем. В этом случае я получаю как минимум семь лет зоны строгого режима. И это на шестом десятке лет. В зените вполне пристойной биографии.
А теперь стоп!
Удар надо держать! Главное: не упасть в глазах близких мне людей, в первую очередь моих детей. Только ради этого все возможное надо выдержать, перенести. Нельзя не помнить и о другом. Жизнь не заканчивается ни в начале шестого десятка, ни в пятьдесят восемь (это тот возраст, которого я достигну на момент своего освобождения, если меня все-таки «спрячут»).
Важно не забывать и еще одну очень простую вещь. Я – не первый и не последний. Сколько моих ровесников получали куда более серьезные сроки в еще недавнюю эпоху ГУЛАГа. И держались достойно. И выживали. И возвращались к тем, кто их помнил и ждал. Самое время вспомнить, что тогда никаких адвокатов для них не существовало, что близкие частенько отказывались-отрекались от своих отцов и мужей.
Кстати, сроки тогда отбывались не за шитьем рукавиц в теплых мастерских, а на рудниках и в тайге с кайлом и тачкой. Не раскисать! Собраться! Верить! Бороться! У меня есть все основания надеяться на справедливость, на счастливое избавление! На победу! Стержень этой уверенности – вера в справедливость, в правое дело. Эта вера умножается осознанием надежности тыла. Тыл – это семья, друзья, редакция. Не раскисать! Верить! Бороться!
***
Палитра звуков, которые улавливает слух обитателя изолятора, небогата. Если распахнута внутренняя створка снабженного тройной решеткой окна, иногда можно услышать обрывки разговоров оказавшихся рядом работников изолятора. Темы разговоров более чем пустячны («Обедал? – «Не-а», «Футбол смотрел?» – «Полная фигня», «Кто сегодня в суд едет?» – «Опять я? Значит, опять без обеда…» и т.д.). Соотношение при этом слов обычных и слов матерных обычно 1:1. Иных звуков с воли сюда не доносится.
Впрочем, вчера перед ужином камеру (часов здесь нет и три приема пищи – единственные ориентиры во времени) наполнил колокольный звон. Похоже, звонили с колокольни одного из расположенных поблизости монастырей. Тот самый вечерний звон, наводящий много дум. А думы-то известно какие. Все больше темные да мрачные…
Кстати, эти же колокола я слышал порою с балкона своей квартиры в Головинском переулке. Разумеется, не сильно прислушивался и совсем не задумывался. Вот оно – то самое, что называют гримасой судьбы. Разве мог я предполагать, что одни и те же звуки можно воспринимать очень-очень по-разному.
А днем доводилось слышать раскаты петардной канонады. Видимо, в одном из ближайших ресторанов кто-то из новых русских с широтой и размахом отмечал какое-то торжество. Каждому – свое. В этих стенах подобное изречение наполняется очень специфическим смыслом.
***
Иногда меня вывозят за пределы изолятора. На допросы, На очные ставки. На всякого рода экспертизы. Всякий раз под конвоем вооруженных автоматами милиционеров.
И всякий раз на меня одевают наручники. Обратил внимание, что наручники отличаются друг от друга. По конструкции, форме, цвету металла. Один из конвоиров объяснил мне, что на сегодняшний день в российском МВД «на вооружении» есть несколько моделей наручников. Есть обычные, есть самозатягивающиеся, ущемляющие, предназначенные для особо беспокойных.
Моделей наручников несколько, но самые надежные те, что изготовлены чуть ли не в середине 50-х годов. «Бериевские, – с блаженной гордостью пояснил мой словоохотливый собеседник, – один клиент тут, бывалый, три ходки за ним, хвалился что их гвоздем в пять секунд откроет. Не открыл. Проспорил. У нас браслеты – супер…»
В пол-уха слушая конвоира-болтуна, поймал себя на простенькой мысли. Для этого милиционера наручники – профессиональный инвентарь, своего рода орудие труда. Вполне логично, что он имеет право гордиться этим орудием. Однако профессии бывают разные…
***
Только что упомянул про свои перемещения по известной схеме «допросы – очные ставки – экспертизы».
Кажется, движение. Кажется, разнообразие.
Однако, куда бы ни возили, чтобы ни предлагали делать, часто ловлю себя на тягостном ощущении, будто все уже определено, все решено, а все эти разговоры и бумажки – просто так, для проформы, для соблюдения какого-то очень условного параграфа. Если так, то я – сродни той жертве, на которую удав уже накрутил свои кольца и теперь неспешно натягивает свою универсальную раздвижную безразмерную пасть. Понятно, удав – образ. Вот только кто за ним? Министр продовольствия, разъяренный публикациями, затрагивающими его репутацию? Или нанятый-купленный им за немалые деньги» кусок целой правовой системы моего многострадального Отечества? Впрочем, какая разница?
Если же упомянутый образ развивать, то получается, что пасть того самого «удава» того гляди захлопнется и… начнется процесс переваривания.
Мрачная перспектива.
***
Каждые два дня (а то и чаще) в камере шмон. Приходят несколько милиционеров, нас выводят в коридор, ставят лицом к стене, ноги на ширине плеч, руки в стену. Сначала нас самым подробным образом обыскивают. При этом тщательно прощупывается каждый шов, каждая складка одежды.
Я с детства боюсь щекотки, потому подобную процедуру переношу с трудом… Потом нас заводят в свободную камеру и запирают.
Пока мы сидим взаперти, милиционеры обыскивают камеру. Переворачиваются пакеты с продуктами, просматриваются собравшиеся за последнее время газеты, перетряхиваются постельные принадлежности.
Что ищут, что вообще можно найти в подобной ситуации, мне непонятно. На этот раз, вернувшись в камеру, стали свидетелями и участниками почти забавной сцены. Старший производившей шмон группы, заорал:
– Откуда в камере деньги?
Мы с удивлением переглянулись. Оказывается, под деньгами оравший понимал полтора рубля (монетка в рубль и монетка в пятьдесят копеек), обнаруженные под постеленной на стол бумагой. Самое удивительное, что никто из нас этих денег никогда и в глаза не видел. Да и можно ли назвать эти монетки деньгами, я не уверен.
***
Правила человеческого общежития в камере изолятора – вполне тюремные. Формировались они веками, в итоге сконцентрировались в тезисы, которые можно сосчитать по пальцам едва ли не одной руки.
Делись едой и куревом с соседями.
Не справляй нужду, когда другие принимают пищу.
Не задавай никому лишних вопросов, вообще старайся как можно меньше обращать на себя внимания.
В разговоре с окружающими не ври даже в самых ничтожных мелочах.
Поддерживай в порядке себя и место, где проводишь большую часть времени.
Вот и все. Все понятно, все объяснимо. Все вполне употребимо для нетюремной вольной жизни. Однако в этой самой вольной жизни про эти простенькие тезисы вспоминают редко. Соответственно и соблюдаются они очень слабо. Странный тогда вывод напрашивается, но с этим выводом я спешить не буду. Ведь тюремный мой стаж попросту ничтожен.
***
В изоляторе регулярно, едва ли не ежечасно, приходится сталкиваться с почти трогательной заботой администрации о нашей безопасности.
Уже в самый первый день (для меня это была ночь) нахождения в этих стенах я стал свидетелем и участником характерной сцены. Принимавший меня прапорщик с хищным интересом пересмотрел мои, наспех накиданные в целлофановый пакет немногочисленные вещи, выхватил оттуда полотенце, вытянул его в длину и буркнул:
– Не положено…
– Почему? Это же средство личной гигиены…
– Длинное…
Встретив мой недоуменный взгляд, пояснил почти с ненавистью:
– Правило такое… Чтобы не вешались…
Видимо, из-за этих же, в высшей степени гуманных соображений у всех поступающих в изолятор непременно отбираются шнурки и ремни (чтобы никто не вздернулся), часы (чтобы осколками разбитого стекла никто не вскрыл себе вены), ножницы и любые предметы, имеющие хотя бы какой-нибудь намек на колюще-режущее предназначение. Весьма неохотно разрешил уже упомянутый прапорщик взять с собой в камеру очки, а вот футляр от очков пропустить наотрез отказался. Причин не объяснил. Видимо, пластмассовый футляр, по его разумению, также в один прекрасный момент мог превратиться то ли в холодное, то ли в огнестрельное оружие.
Похоже, по тем же причинам безопасности, мебель в камере, как я уже отмечал, наглухо приварена к полу. Наверно, тем же можно объяснить и особый режим пользования посудой в изоляторе.
Миску, кружку и ложку всякий находящийся здесь получает утром при раздаче завтрака. Ложки возвращаются сразу после окончания еды. Миски и кружки сдаются уже вечером, после ужина.
Почему посуду нельзя надолго оставлять в камере?
– Мусора боятся, чтобы из этого заточек не наделали, – пояснил мое сосед, бывалый сиделец, сорокалетний Игорь.
Любопытно, что алюминиевые кружки, выдаваемые в изоляторе для временного пользования, – начисто лишены ручек. Оказывается, в отклепанном, распрямленном и заточенном виде эта ручка легко превращается в серьезное оружие.
Наверное, по той же причине из обуви всех поступающих в изолятор извлекаются металлические супинаторы. Помню остервенелое сопение, с которым во второй день моего пребывания в этих стенах дежурный прапорщик курочил мои совсем не старые, купленные в прошлом году аж в самом Лондоне ботинки.
– И чего же вы там ищете? – не сдержал я своего наивного любопытства.
– Чего надо, найду обязательно, – прорычал прапорщик.
На время разламывания моих ботинок я был помещен в железную, запирающуюся на замок клетку. Оттуда, через зазоры в металлических прутьях, была прекрасно видна, затянутая в серое форменное сукно спина милиционера, хлопотавшего над моими ботинками.
Я видел, как на этом сукне появились темные пятна пота, как покраснели и заблестели жирные складки между шеей и затылком.
Было понятно, что человек был занят своей каждодневной работой, которую он любил и которую вряд ли был готов доверить кому-нибудь другому. Кстати, представить, чтобы этот человек делал другую работу, я не мог. Трудно было удержаться от любопытства:
– Не жаль башмаков? В Англии куплены, их еще носить да носить…
Прапорщик повернул ко мне искаженное злобой лицо:
– После того что по футболу с нашей командой англичане сделали, все английское бойкотировать пора… А тебе скоро совсем другая обувка потребуется…
Угодил гад навскидку ниже пояса.
По инерции я огрызнулся:
– Не тебе, а вам…
Уточнения никто не услышал. Стальные супинаторы были торжественно извлечены из недр моих развороченных башмаков и пафосно отправлены в мусорную корзину. Заодно впавший в раж милиционер одним махом обрезал украшавшие башмаки пряжки. Уточнять, чего ради это было сделано, мне уже не хотелось.
***
Обратил внимание, как велик в изоляторе дефицит ярких и сочных красок.
Стены выкрашены в нездоровый зеленый цвет, потолки – в грязно-белый. Одеяла и матрасы – вольная импровизация на темы уныло-серого и мрачно-синего. Наволочки и простыни – серо-желтые. Других цветов здесь не встречается.
Еще один штрих приблизительно на ту же тему. В ясный день, расположившись у окна соответствующим образом (точнее, изогнувшись почти неприлично – так, чтобы угол зрения совпадал с углом наклона пластинок жалюзи), можно увидеть полоски голубого неба. Вот тебе наглядная иллюстрация к мотивам и образам тюремно-блатной лирики, где так часто повторяется «кусочек неба синего».
Впрочем… Похоже, что все так специально и задумано с участием людей, неплохо разбирающихся в тонкостях человеческой психологии. Убогая гамма красок создает соответствующее настроение, соответствующим образом влияет на волю. По большому счету палитра изолятора – проверенный и действенный инструмент в руках тех, кто желает вытащить из тебя соответствующие показания, заставить подписать нужные бумаги и т.д.
***
Ни к месту и ни ко времени пришла в голову шальная идея розыгрыша, которому подвергну кого-нибудь из своих друзей, как только покину эти скорбные стены. Не предупредив о своем освобождении, непременно завалюсь к самому законобоязненному из них, сделав страшные глаза (как у того прапорщика, что курочил мои английские ботинки), попрошу свистящим шепотом:
– Спрячь Христа ради… Я в побеге… У меня мусора на хвосте…
Затея еще не сложилась в законченный сюжет, а мне уже стало за нее стыдно. Экое непростительное мальчишество, отдающее откровенной глупостью!
Кстати, чтобы такие шутки шутить, для начала нужно хотя бы освободиться, а этим пока и не пахнет.
***
Удивительное дело – лексикон персонала, работающего в этих стенах, практически не отличается от лексикона людей, здесь содержащихся. То же засилие блатных словечек, тот же густой, вовсе даже не цветистый, а грубый и однообразный мат.
Кстати, едва ли не треть состава персонала, работающего в изоляторе, – женщины. И они изъясняются аналогичным образом.
Если профессиональное арго считать частью бренда, то странный бренд у этого знаменитого, прославленного книгами и кино милицейского изолятора.
***
Впервые за десять дней нахождения в неволе видел сон. Путанный, смазанный сюжет: коридор, очень похожий на коридор родной редакции. Много-много коротко стриженных ребят. То ли воспитанники приюта, то ли заключенные колонии малолеток.
У меня в руках какой-то предмет. Что-то тряпичное. Что-то вроде тряпичного свертка или сложенной куртки. Одной рукой я прижимаю этот кулек к себе, другой отбиваюсь от наседающей ребятни. Мои удары и прочие движения, как это часто бывает во сне, вязкие, тяжелые, очень медленные. Движения моих противников также оставляют желать много лучшего – они суетливы и бестолковы.
Как можно трактовать увиденный сюжет? Жаль, рядом нет профессионального толкователя снов.
***
Друг передал через адвоката карманное Евангелие. Своевременный подарок! Тюрьма и каторга испокон веков лучшие места для укрепления веры, постижения христианских истин. Друг – выпускник МГИМО. Два иностранных языка он знает в совершенстве, еще два чуть хуже. Специалист едва ли не мирового уровня по международному праву. Знаток западноевропейской живописи и оперы. Он толст, неуклюж, очень мил и начисто лишен способности ориентироваться в самых элементарных жизненных ситуациях. Наверное, поэтому все три имевшие место в его жизни жены взашей выгоняли его, обе уже взрослые дочери избрали дистанционно-дозированный способ общения с ним.
Перелистывая переданную им книгу, поймал себя на простой, но очень четкой мысли: здесь евангельский текст будет читаться совсем по-другому. Мелькнуло и другое, уже тревожное: не раз и не два придется перечитывать в ближайшее время эту книгу. Впрочем, с последним, возможно, ошибаюсь.
Тут же пришел на память и общеизвестный факт из отечественной истории. В годы Первой мировой войны многие представители российской интеллигенции в едином патриотическом порыве объединялись во всякие комитеты и общества помощи фронту. Разумеется, комитеты и общества регулярно заседали, их члены не менее регулярно спорили о судьбах России, скорбели о недюжинных испытаниях, выпавших на долю русского народа. А единственным более конкретным результатом деятельности этих организаций были отправленные на фронт вагоны с отпечатанными типографским способом иконками. И это в то время, когда на передовой не хватало оружия, патронов, продовольствия. Верно, оторванность от жизни, неспособность к конкретному решению конкретных задач – извечная проблема русской интеллигенции. Плюс элементарная трусость.
Кстати, тот же, передавший Евангелие, друг, с учетом своих юридических знаний и очень серьезных знакомств в милицейских сферах (многие его бывшие ученики уже достигли немалых карьерных высот), мог реально помочь мне в моей нынешней ситуации. Передать, пусть трижды полезную, книгу, конечно, проще.
Впрочем, эта самая моя нынешняя ситуация менее всего подходит для высокого морализаторства. Спасибо, Борис Наумович, за проявленную посильную заботу! Не дай Бог, ты попадешь в похожий переплет (кто знает, вдруг всплывут факты твоих манипуляций с левыми диссертациями или объявится некая особа, которую ты склонил к интимной связи за благосклонность при защите ее кандидатской). Вот тогда я лично подам тебе пример соучастия и сострадания.
***
Похоже, тюремный изолятор – уникальное место, где человеческий кругозор расширяется самым неожиданным и самым непредсказуемым образом. Например, здесь я попробовал… курдюк. Курдюк – это соленое (возможно, и чуть подкопченное) овечье сало, из того самого курдюка, что болтается у этих животных в известном малоприличном месте. Пробовал с некоторой опаской, больше чтобы не обидеть угощавшего чеченца Ахмета. Опасения оказались напрасными. Курдюк оказался вполне съедобным и даже вкусным продуктом. Что-то среднее между осетриной и свиной грудинкой. Чего еще я здесь узнаю, с чем познакомлюсь, чему удивлюсь?
***
Приходили «мои» опера.
Написал «мои» и задумался. «Мои» – это как приговор. Примета того, что все ЭТО (допросы, тюрьма и т.д.) – надолго и всерьез. Подумал так и поежился.
А впечатление от моих «гостей» неприятное. Даже от их внешности. Один – очень маленький, вертлявый с плутовскими бегающими глазами. Другой – высокий, но очень узкий в плечах с неестественно большой головой на очень тонкой шее. Прямо марсианин какой-то. И глаза у него тоже очень примечательные. Водянистые, совершенно пустые. Наверное, такие глаза должны быть у патологоанатомов и профессиональных палачей.
Понимаю, мое отношение к этим людям очень специфическое, очень пристрастное. Только все равно хотел бы найти в их внешности хотя бы что-то положительное, привлекательное. Хотел, но так и не смог.
Фамилия одного – Штатов, другого – Сержантов. Наверное, очень надолго запомню я эти фамилии.
При встрече, на которую меня привели в специальную комнату, мне был задан вопрос:
– Ну как вам тут?
– Отлично, – почти машинально ответил я.
За первым вроде как дежурным вопросом грянули два других. Куда более конкретных, куда более болезненных, если не сказать безжалостных, сродни ударам, нацеленным ниже пояса:
– А вы статью свою знаете?
Тот, что повыше, кивнул на стол, где лежал пухлый том Уголовного кодекса.
– А вы знаете, сколько по ней сидеть придется?
Этот вопрос был уже задан маленьким Штатовым.
– Это допрос? – в свою очередь переспросил я.
Моих скромных познаний в уголовно-правовой сфере уже достаточно, чтобы знать, что всякий допрос может производиться только с участием адвоката. «Гости» вмиг поскучнели.
– Да нет, мы побеседовать пришли, никакой это не допрос…
Мне ничего не оставалось, кроме как попросить, чтобы меня отвели обратно в камеру.
Разумеется, визит оперов настроения не прибавил. Скорее наоборот. Статья, по которой мне предъявили предварительное обвинение, предполагает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Если это не изощренная форма психологического давления (точнее, откровенного грубого «прессования»), тогда что же это?
Уже в камере подумал, дай волю двум этим моим «посетителям», с каким рвением и изобретательностью взялись бы они за добывание (а скорее за выбивание) моих признательных показаний. Заодно и отмстили бы своему подследственному за все, что не дано им судьбой: за малый рост и прочие физические недостатки, за не очень богатое детство, за провинциальное прошлое, и за много чего еще. Какое все-таки счастье, что на дворе не 37-й, что у меня есть адвокаты, что на воле остаются люди, которые помогают и поддерживают.
***
А в отношении психологического давления… Похоже, у тех, кто занимается моим «делом», накоплен немалый опыт подобных приемов и методов. Вспоминается и первый якобы случайный, сосед по камере (теперь не сомневаюсь, что он был из «наседок»), который едва услышав мои ответы на стандартные вопросы «за что», «почему» сразу вынес безапелляционный вердикт: «Да тебя по факту взяли, надолго угреешься…»
Помню и номер «Московского комсомольца», вроде как случайно кем-то оставленный в милицейском воронке, в котором везли на очередной допрос. Непростой номер – со статьей, персоне моей посвященной, где про вымогательство и всякие «ужасы» (типа наркотиков, в моем жилище «обнаруженных»).
Теперь вот про другую «статью» – статью УК, которая, возможно, и не имеет ко мне никакого отношения, но которую так изобретательно и старательно «лепят» ко мне мои недоброжелатели.
Наверное, со стороны, с «воли», все это пустяками представляется, а то и вовсе приметами психологического расстройства. Но это со стороны… А когда ты в клетке, где даже небо только в щелочках жалюзи можно увидеть, все это совсем по-другому принимается. И это не свидетельство твоей слабости. Это – данность!
***
Население изолятора постоянно тасуется. Фактически больше недели в одной камере никто не обитает. Логика начальников, установивших и поддерживающих это правило, вполне объяснима. Видимо, они думают, что люди не должны быть подолгу в одной «хате» (так здесь называют камеры), иначе между ними начнут складываться откровенные доверительные отношения. А там, поди, преступные сообщества начнут закладываться и всякие там умыслы (типа побега, захвата заложников, бунта и т.д.) будут зарождаться.
Я успел сменить три камеры. Масса людей менялась вокруг меня. Моими соседями были очень разные во всех, в том числе и в религиозном, отношениях люди. Порою бывало так, что в одно время с баптистом, мурлыкавшим под нос евангельские псалмы, таджик с благоговением совершал намаз, а ортодоксальный еврей, набросив на голову вместо кипы носовой платок, раскачивался в очередной молитве. Вот и сейчас чеченец Ахмет, заменив коврик собственной курткой, отбивает поклоны. А на соседней койке листает журнал с полуголыми девками на обложке сатанист Андрей. Листает и поглаживает большую наколотую на животе пентаграмму.
И никому не мешает мой, переданный с воли, миниатюрный образ Богоматери. Удивительно, ни в одной камере в разговорах никто никогда не касался вопросов веры и никогда не возникало ситуаций, которые хотя бы с натяжкой можно было бы отнести к конфликтным. Неужели в нашем нынешнем социуме камера милицейского изолятора – единственное место, где люди различных конфессий едят за одним столом, мирно делят куцее казенное пространство, словом, прекрасно уживаются и легко понимают друг друга?
***
Кстати, про образ Богоматери. Его еще лет пятнадцать назад написал и подарил мне мой племянник, профессиональный иконописец. С этой иконой я старался не расставаться: брал его с собой и на отдых, и в командировки. В итоге она объехала со мной стран двадцать. Побывала во многих пышных европейских столицах, видела головокружительную экзотику Азии и Африки. Вместе со мной летала, плавала, тряслась по грунтовкам в джунглях, в горах, в пустынях. Видела и «горячие точки». Конечно, помогала и спасала. Вот и сейчас она со мной. Передала жена, когда приехала в суд, который принимал решение «об оставлении меня под стражей». Едва упросила дубинноголового конвоира, который меня тогда сопровождал. Последний долго отказывался, потом смиловался, но, на всякий случай, царапнул перочинным ножом крест-накрест тыльную сторону образа. Наверное, искал миниатюрный тайник для наркотиков или что-то еще в этом роде. Маленькую икону я принимал двумя руками. По-другому не получалось: руки были скованы наручниками.
Очень хорошо, что этот образ сейчас со мной. Интересно, какие еще «приключения» предстоит ему разделить со своим владельцем.
***
Остался в камере совсем один.
Чеченца Ахмета отпустили под подписку. Я уже знаю, что это – хороший признак (значит, у следователей не сходятся концы с концами, обвинение на ладан дышит, если не сказать, рассыпается).
Бывалый зэк Игорь переведен в другую «хату». Не сомневаюсь, он играл роль «наседки» (уж слишком не соответствовали вопросы, которые он задавал мне, уровню его образования, культуры и всей прошлой биографии). Я его не осуждаю. Кто знает, какие обстоятельства сложились в его жизни, когда он принял решение «работать на органы».
Уральский залетный паренек (забрали в скверике у трех вокзалов по подозрению в краже мобильного телефона, в изолятор прибыл в резиновых «вьетнамках» и в майке-борцовке) просто был вызван куда-то и не вернулся.
Теперь я один. Что это? Случайное совпадение обстоятельств или что-то новое из арсенала мер психологического воздействия на подследственного?
Обстановка в изоляторе такова, что и с соседями нет смысла быть слишком разговорчивым, тем более откровенным. Одиночество – вечный удел всякого, сюда попадающего. И все-таки немного лучше, немного веселее, когда рядом пусть мало знакомая, но все-таки живая душа, готовая, пусть к пустяковому, но все-таки разговору. А тут один, совсем один. И неизвестно, сколько это продлится.
Можно только догадываться, какие мысли могут приходить в голову в этих стенах. Когда человек оказывается здесь в полном одиночестве, тяжесть подобных мыслей вырастает во много раз.
Впрочем, мысли мыслями, но есть еще вера, есть надежда, есть воля. Это – не материальные предметы, которые можно отобрать в ходе шмона. Это – то, что всегда во мне, всегда со мной. Количество соседей и сам факт их присутствия или отсутствия в камере на это не влияет.
Кстати, уже знаю, что порою постоялец изолятора специально оставляется в камере совсем один для того, чтобы приходящим к нему следователям или операм было удобней… выбивать из него нужные показания. Бывает, что подобные процедуры осуществляются и вовсе неведомо кем. Просто в один прекрасный момент, днем или ночью, растворяется железная дверь, в камеру заходят двое, трое, возможно, и более (в зависимости от физических данных подследственного) молодцов в масках. Заходят и… лупят подследственного. Лупят жестко, больно, но аккуратно, чтобы ни синяка, ни ссадины не оставалось.
Сделают молодцы в масках свою черную работу, а следом к еще не очухавшемуся подследственному, милости просим, следователь или опера по его делу с известным вопросом:
– Ну что, дальше отпираться будем или сознаваться будем?
Не сказать, что повальная, поставленная на конвейер практика, но бывает такое, еще как бывает. Возможно ли применение подобных «штучек» по отношению ко мне? Думаю, вряд ли! Все-таки у меня толковые адвокаты, да и к средствам массовой информации имею самое близкое отношение. Кому нужны громкие скандалы, по итогам которых и погоны можно потерять и за ту же решетку угодить? Тем не менее и к такому, пусть ничтожно вероятному, варианту развития событий надо быть готовым. Не расслабляться, чтобы не застали врасплох!
***
И все-таки как себя вести, если начнут применять «меры интенсивного воздействия»? Принимать как должное, разве что складываться «калачиком», как когда-то учили старшие товарищи в «трудном» детстве, прикрывая ладонями голову, а локтями почки? Или… Ответить на «подобное подобным»? Ясное дело, долго «спаринговать» не смогу, но одного, а возможно, и двоих… найду чем угостить. Что-то еще умею, что-то еще помню, что-то еще могу. Вот только чем в моей ситуации это может обернуться? Надо все тщательно взвесить…
***
Снова вспомнил про «наседок», которых в этих стенах более чем хватает. Верно, старая проверенная практика, применяемая во всех странах, при всех правителях, во все времена. Кажется, несложная: слушай, о чем говорит «объект разработки», задавай нужные вопросы, потом обо всем этом сообщай куда надо.
Помню, как тот же мой сосед Игорь регулярно через «кормяк» передавал якобы прочитанные им газеты с якобы разгаданными им кроссвордами якобы как мусор, которому в камере не место. А я как-то, уже догадавшись о его «особой миссии», для окончательного подтверждения своих предположений, попросил у него газету, чтобы «перечитать статью». Ох, как заволновался мой сосед, засуетился, понес какую-то чепуху про то, что там все «читано-перечитано», потом просто сгреб в охапку всю прессу, заколотил в железную дверь, позвал коридорного, чтобы тот «забрал мусор» (в котором как раз и содержался его очередной отчет обо всех проведенных со мной беседах).
Конечно, примитивная, непонятно на кого рассчитанная методика. Только не для этого вывода я все это вспоминал. Другое волнует: мог бы вот так я сам? Что-то вынюхивать, выпытывать, выспрашивать? Точнее, какие обстоятельства могли бы заставить меня пойти на это? Верно, всякое в жизни бывает, да и фантазия у меня богатая, только что-то не выходит смоделировать такую ситуацию. Никак не могу я представить себя в такой роли.
Хотя, не суди – судим не будешь!
И все-таки какова природа «стукачей»? Чего здесь больше: приобретенного или врожденного? Можно ли заранее выявить «наседку» по узору отпечатков пальцев, особенностям почерка, каким-то тестам?
Наверное, я – счастливый человек, если никогда в своей жизни не приходилось даже примериваться к подобной роли.
***
Опять внутри заворочался саднящий вопрос: что меня ждет? Вариантов по-прежнему несколько. Уже отмечал, разброс тут громадный. Другое дело, что до того момента, как это будущее начнет определяться, может пройти немало времени. Одно дело ждать подобной ясности в двадцать-тридцать лет, другое дело, когда тебе уже пятьдесят… Только бы выдержало сердце, не сдали бы нервы, не навалились затяжные простуды. Да и заполучить здесь в виде памятного сувенира на всю оставшуюся жизнь туберкулез (хлебнувшие неволи называют его почти нежно «тубик») – тоже совсем не радостная перспектива.
***
Скажи бывшему зэку (отсидевшему хотя бы года два) о сложностях и трудностях двухнедельного пребывания в изоляторе временного содержания – он рассмеется тебе в лицо.
Действительно, два года и две недели – понятия несопоставимые. Сложно сравнивать условия зоны (а там я вообще не был) с обстановкой в изоляторе. Здесь мнения расходятся: одни называют изолятор санаторием, а зону – адом, другие настаивают на совершенно противоположной точке зрения. А может быть, дело вовсе не во временных и даже не в качественных показателях, а в особенностях человеческой натуры, в способностях человека очень по-разному переживать сам факт попадания в экстремальную обстановку. И за один-единственный день своей жизни кто-то может пережить столько, сколько другому не пережить и за десятилетие своей жизни. Да и неизвестно, какие события и потрясения сконцентрируются для него именно в этот день.
Вспомнил в связи с этим свои собственные впечатления от войны в Югославии. Русские добровольцы, приехавшие в эту страну в начале 90-х помогать братьям-сербам отстаивать свою Веру, оказывались в очень разных условиях. Одни, пробыв на фронте несколько месяцев, возвращались домой, так и не побывав в серьезных переделках. И не потому, что избегали опасных ситуаций – просто на тех участках фронта складывалась именно такая обстановка. Другие же, наоборот, – едва приехав в зону боевых действий, чуть ли не в первый день попадали в страшную мясорубку, получали увечья, ранения, случалось, и погибали.
Так и с человеком, угодившим в неволю. Кто-то, поварившись в этом котле всего неделю (допросы, очные ставки, следственные эксперименты, активная оперативная разработка с помощью «наседок» всех пород и т.д.) может оказаться на гране помешательства. Кто-то проведет здесь целый год и обнаружит (кто с удивлением, кто с гордостью), что ничего особенного с ним не произошло (так же спит, так же ест, так же дышит). Любопытно, какими переменами обернется нынешняя ситуация для меня?
Автор: Борис Земцов, фрагменты из книги, альманах НЕВОЛЯ
Tweet