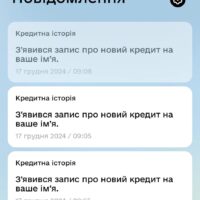Как я 4 месяца проработал охранником в частной тюрьме. Часть V. О медицине в тюрьме
Мои приоритеты изменились. Относиться к каждому, как человеку, требует слишком больших затрат энергии. Всё больше и больше я фокусируюсь на том, что не собираюсь уступать. Я бдителен; я прихожу на работу готовым к тому, что люди будут меня освистывать, или бежать на меня, или угрожать ударить меня по лицу. Я не показываю ни страха, ни раскаяния.
Читайте начало: Часть I. «Этой сучкой рулят заключенные» / Часть II. Тюремные эксперименты / Часть III. Предотвращение самоубийств / Часть IV. О сексе и насилии в тюрьме
Человек ранен
Однажды в «Ясене» несколько заключенных принимаются кричать «Человек ранен! Человек ранен!» Мэйсон, крупный мужчина, лежит на своей койке в С2, положив правую руку на обнаженную грудь. Его глаза закрыты; он медленно качает левой ногой взад-вперед.
«Мы только положили его на койку. Он упал со своей гребаной кровати только что, братан», — говорит мне заключенный. «Он нехило ебнулся». Я по рации прошу прислать носилки.
Мэйсон начинает плакать. Его левая рука сжата в кулак. Его спина согнута дугой. «Мне страшно», — одними губами говорит он. Кто-то на секунду накрывает его ладонь своей рукой: «Я знаю, сынок. Они сейчас придут посмотреть, что с тобой приключилось».
Наконец-то приносят носилки. Медбратья и санитары двигаются медленно. «Нельзя было отправлять его обратно сюда», — говорит мне один из заключенных. Ранее сегодня Мэйсон играл в баскетбол и рухнул на землю от боли, объясняет он. Он пошел в медпункт, где ему сказали, что у него жидкость в легких.
Трое заключенных подняли Мэйсона и положили его на носилки. Когда двое из них уносят его, он скрашивает руки на груди, словно мумия.
Несколько часов спустя его вернули в камеру.
Спустя несколько дней я вижу, как Мэйсон плетется, едва переставляя ноги, обнимая руками туловище. Я говорю ему сесть на мой стул. Он садится и сгибается пополам, кладя голову на колени. Он говорит, что чувствует «пульсирующую боль в груди». Мы вызываем носилки. «Они сказали, что у меня жидкость в легких, и не отправляют меня в больницу», — говорит он. «Это полная херня».
Оказывается, медсестра в блоке; она раздает таблетки. Я говорю ей, что Мэйсона по-прежнему приводят в лазарет, но не отправляют в больницу. Она настаивает, что с ним «ничего серьезного». «Когда я видел его на прошлой неделе, он готов был вот-вот потерять сознание», — говорю я. «Он страшно мучился».
Она искоса смотрит на меня. «Но доктор все равно не отправит его в больницу только из-за этого».
Отправь они его в больницу, CCA пришлось бы платить за его лечение, что представляет собой дилемму для коммерческой организации. Даже короткий период пребывания в больнице представляет собой существенные траты для заключенного, который приносит компании около 34 долларов в день. И это не считая стоимости содержания двух охранников, которые должны присматривать за ним. Медицинское обслуживание в тюрьме тоже достаточно дорого.
ССА не отчитывается о своих расходах на здравоохранение, но в стандартной тюрьме это вторая по величине статья расходов после расходов на содержание персонала. В среднем, луизианские тюрьмы тратят на здравоохранение 9% своего бюджета. В некоторых штатах показатели могут быть выше; к примеру, 31% тюремного бюджета калифорнийских исправительных заведений. Согласно бюджетному управлению Луизианы, около 40% заключенных в Уинне страдают от хронических заболеваний — диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы. Примерно 6% являются носителями инфекционных болезней — СПИДа или гепатита С.
Заключенные в очереди за таблетками.
Однажды я познакомился с безногим человеком в инвалидной коляске. Его зовут Роберт Скотт. (Он дал согласие на использование его настоящего имени.) Он находится в Уинне 12 лет. «Когда я попал сюда, я ещё был ходячим», — рассказывает он. «Я мог ходить, и у меня были все пальцы». Я заметил, что он носит перчатки без пальцев, из которых ничего не торчит. «В январе мне ампутировали ноги, а в июне пальцы. С гангреной шутки плохи. Я все ходил в лазарет и говорил: „У меня болят ноги. У меня болят ноги.“ А мне говорили: „У тебя вообще ничего нет. Не вижу ничего плохого.“ Они мне не верили или реагировали грубо — „Не верю, что ты приходишь сюда, потому что болен“».
В его медицинских записях видно, что за четыре месяца он по крайней мере девять раз обращался к врачу. Он жаловался на точечную боль в ногах, отеки, гнойные выделения и жуткую боль, не дававшую уснуть. Когда он приходил в лазарет, врачи предлагали ему ортопедические стельки, пластыри для удаления мозолей и Мотрин. Он сказал, что однажды показал смотрителю свои отекшие ноги с гнойными подтеками. На судебном процессе против CCA, Скотт утверждал, что однажды медсестра сказала ему: «С вами все в порядке. Если вы снова обратитесь за медицинской помощью, то получите дисциплинарный выговор за симуляцию». Он подавал письменное прошение о переводе в больницу для независимого обследования, но оно было отклонено.
Со временем онемение распространилось на его руки, но лазарет по-прежнему отказывался лечить его. Кончики пальцев его рук и пальцы ног почернели и выделяли гной. В лазарете обеспокоились тем, что он может быть заразен. Однажды бессонница Скотта не давала уснуть одному из других заключенных, и тот пригрозил убить его, если его не переведут на другой ярус. Возникшая перепалка привлекла внимание персонала и его решили доставить на обследование в местную больницу.
«Но, когда мне отрезали ноги, никто не пришел и не сказал: „Прости, Роберт“. Я и так настрадался сполна. Просто будучи за решеткой». Сейчас он судится с CCA за халатность, выдвигая обвинения в том, что лазарет отказывал в медицинской помощи, так как в тюрьмах недостаточно квалифицированного персонала, что прибыльно для компании.
«Как вы думаете, в какой области мы, как представители тюремного бизнеса, в первую очередь получаем нападки?, — спрашивает нас на планерке Уорден Паркер, заместитель начальника тюрьмы, — в медицине! Даже, если у заключенного всего лишь насморк, он имеет право быть доставленными к специалисту, который вылечит этот его насморк». Его голос приобретает скептический оттенок. «Верите или нет, закон обязывает нас заботиться о них».
Это правда: В соответствии с постановлением Верховного суда на основании Восьмой поправки, тюрьмы обязаны предоставлять заключенным надлежащее медицинское обслуживание. Однако CCA находит способы уклонения от этих обязательств. В тюрьмах других штатов, куда Калифорния направляет некоторых заключенных, не принимаются заключенные старше 65 лет, психически больные, или имеющие серьезные заболевания, вроде ВИЧ.
Контракт с тюрьмой компании в Айдахо определяет основные критерии при приеме новых заключенных как «отсутствие хронических психических заболеваний или необходимости в медицинской помощи». Контрактами некоторых тюрем CCA в Теннесси и на Гавайях предусмотрено, что штат будет оплачивать расходы на лечение ВИЧ. Подобные исключения позволяют CCA заявлять о собственной экономической эффективности, в то время как налогоплательщики берут на себя оплату медицинского обслуживания заключенных, которых корпорация не собирается принимать или лечить.
В 2010 году корпорация вместе с Иммиграционной и таможенной полицией урегулировала федеральный иск, поданный Американским союзом защиты гражданских свобод, утверждавшим, что нелегальные мигранты, содержащиеся на одном из объектов CCA, не получают надлежащей медицинской помощи. (CCA не признали никаких нарушений).
В одном из редких случаев, когда дело дошло до суда, корпорацию признали виновной в нарушении 8-й и 14-й поправок и обязали выплатить $235 000 заключенному, чья сломанная челюсть держалась на проволоке в течение 10 недель. (На глазах у надзирателей он самостоятельно снял проволоку кусачками для ногтей). Суд присяжных тогда писал, что они надеются на то, что их решение станет посланием, которое «пронесется эхом по коридорам ваших корпоративных офисов, как и по корпоративным жилым комплексам». (CCA обжаловали решение и отсудили неизвестную часть суммы.)
Источник: журнал Prison Legal News; анализ журнала Mother Jones исков к CCA в период с 1998 по 2010 год.
Кроме того, CCA получает иски, связанные с врачебной халатностью по отношению к беременным заключенным. В 2014 году они урегулировали дело на $690 000, связанное со смертью ребенка заключенной в окружной тюрьме в Чаттануге, Теннесси. Когда у пострадавшей начались схватки, ее на три часа оставили в камере без матраса истекать кровью прямо на пол.
После того, как женщина обратилась за помощью, в течение пяти часов никто не вызывал скорую. Вскоре после этого ее новорожденный ребенок погиб. На слушании в суде смотритель заявил, что на кадры с камер наблюдения не показывают никаких признаков чрезвычайной ситуации. Однако, кадры не были продемонстрированы, поскольку, по утверждению CCA, они были случайно стерты. Суд обвинил CCA в уничтожении вещественных доказательств.
CCA урегулировала другой иск на $250 000 после того, как беременная женщина, содержавшаяся в тюрьме Нэшвилла жаловалась на вагинальное кровотечение и сильные боли в животе. Она сказала, что медицинский персонал потребовал «доказательств», поэтому ее поместили в одиночную камеру и отключили воду, чтобы потерю крови можно было «отследить».
По ее словам, для облегчения боли ничего не было сделано, в то время как она переживала схватки, заполняя кровью унитаз. На следующее утро на нее надели наручники и доставили в больницу, где врачи обнаружили, что шейка матки уже раскрыта. На глазах у надзирателей она родила, и ее немедленно усыпили. Когда она проснулась, медперсонал принес ей мертвого младенца. По ее словам ей не позволили позвонить семье, и не сказали куда забрали тело ее сына.
По крайней мере 15-и врачам из Уинна предъявляли иски за некачественное медицинское обслуживание. Их берут на работу в тюрьмы даже после наложения государственного взыскания за неправомерные действия. Один из них, Айрис Кокс, был принят на работу в 90-е, после того, как действие его лицензии было временно приостановлено за то, что он выписывал себе рецепты, сидя на транквилизаторах. Пока Марк Синглтон работал в Уинне, коллегия медицинских наблюдателей Луизианы, обнаружила, что он не смог «придерживаться стандартов медицинского обслуживания» на предыдущей работе в Нью-Мексико.
Ему был назначен испытательный срок, однако CCA позволило ему работать дальше. CCA приняла на работу Степана Куплески после того, как его лицензия была временно отозвана за оформление рецептов на болеутоляющие для одного из родственников в отсутствие медицинских показаний. Роберт Кливленд продолжал работать в Уинне, после того как был поставлен на испытательный срок за участие в схеме откатов с компанией по продаже инвалидных кресел. Позже он был подвержен взысканию за выписывание наркотиков дома и в автомобиле. (Не ясно, работал ли он в Уинне на тот момент. CCA утверждает, что все доктора в Уинне имеют «надлежащие полномочия».)
Данные, собранные журналом Prison Legal News о более чем 1 200 исках против CCA, показывают, что 15% из них связаны с медицинским обслуживанием. (Этот пример не включает полный список исков против корпорации; только в 2010 году на CCA подавали в суд 600 раз, в то время как в период с 1998 по 2008 год исков было также 600.) Так как большинство заключенных не могут позволить себе нанять адвоката, победа в суде для них почти исключена. Когда я запросил публичные записи из нескольких штатов о более свежих исках против CCA, корпорация вмешалась, утверждая, что список дел, включающий обвинения в медицинской халатности, смерти по неосторожности, нападении и применении силы, «представляет собой коммерческую тайну».
Примирение с Розовыми Очками воодушевило меня. Каждый раз, когда возникала проблема с заключенным, я применял такой же подход, и время от времени мы стукались кулаками, чтобы высказать взаимоуважение. Однако такие прорывы мимолетны. В настоящий момент они воспринимаются, как проблеск того, что мы способны высоко ценить человечность друг друга, однако я начинаю понимать, что наше положение делает это практически невозможным. Мы можем болтать и смеяться через прутья решетки, но мне неизбежно приходится следить за собственным авторитетом. Мои обязанности всегда будут в том, чтобы пресекать в них один из основных человеческих порывов — тягу к большей свободе. День ото дня, заключенных, которые расположены ко мне дружелюбно, становится все меньше.
Есть исключения, такие как Ларек, но я знаю, что если лишу его привилегий, которыми мы с Баклом его наделили, то и он превратится во врага.
Мои приоритеты изменились. Относиться к каждому, как человеку, требует слишком больших затрат энергии. Всё больше и больше я фокусируюсь на том, что не собираюсь уступать. Я бдителен; я прихожу на работу готовым к тому, что люди будут меня освистывать, или бежать на меня, или угрожать ударить меня по лицу. Я не показываю ни страха, ни раскаяния. Иногда заключенные зовут меня расистом, и это задевает, но я стараюсь не дергаться так сильно, как только могу, поскольку иначе я выдал бы свою слабость, ту кнопку, на которую можно нажать, когда они хотят меня согнуть.
Почти каждый день достигает пика крещендо отчаяния, потому что заключенным нужно идти куда-то вроде юридической библиотеки, класса подготовки к экзаменам средней школы, профессионально-технических курсов, группы злоупотребления наркотиками и алкоголем, но эти программы отменены, или заключенных слишком поздно выпускают из блоков. Заключенные говорят мне, что в других тюрьмах есть четкое расписание.
«Двери открывается и все идут по своим делам», — рассказывает заключенный, побывавший в разных тюрьмах штата. Здесь же, здесь нет расписания. Мы ждем сигнала по радио; тогда мы позволяем заключенным выйти. Они могут выйти поесть в 11 часов, а могут в 3 часа. Может быть будут школьные занятия, а может и нет. Прошли годы с тех пор, как в Уинне было достаточно персонала, чтобы использовать большой двор. Мы часто этого не делаем. Буфет и библиотека почти всегда закрыты. У нас просто не хватает надзирателей, чтобы за всем уследить.
Надзиратели разделяют это отчаяние с заключенными, которые, по их словам, понимают, что мы не в состоянии решить проблемы, существующие на уровне руководства. Тем не менее, две группы людей по-прежнему замкнуты, как солдаты в битве и в войне, в которую никто из них не верит.
Каждый раз, когда я открываю двери, я требую, чтобы они предъявляли пропуска и своим телом блокирую поток людей. Некоторые просто прорываются.
Я хватаю одного. «Вернись назад!», — кричу ему, — «Я запишу тебя прямо сейчас, если ты не вернешься назад. Ты меня слышал?»
Он возвращается назад, сверля меня глазами. «Белый чувак всегда на пути у нигера, сука», — говорит он. Я закрываю дверь, игнорируя его. «Тебе лучше съебаться отсюда, пока я всех вас не прикончу», — кричит он на меня. «Ты еще зелен, как ебучий шакал!»
Я устал.
Заключенный ходит около «ключа». Бакл следует за ним и зовет меня, чтобы я его остановил. Я преграждаю заключенному путь. Я его знаю, такой с мини-дредами. Честно говоря, я чувствую угрозу каждый раз, когда вижу его. «Сюда», — говорю я, указывая туда, откуда он пришел. Он пытается пройти мимо. «Сюда!», — командую я ему. Он разворачивается и медленно уходит. Я иду прямо за ним. Он останавливается, разворачивается ко мне, вскидывает руки и кричит: «А ну прочь с дороги, пёс!», — я знаю, что он меня проверяет. Я открываю дверь его яруса. Он входит, стоит там и не отводит от меня ожесточенного взгляда. Я хватаю дверь и резко ее захлопываю — бах! — прямо ему в лицо.
Я разворачиваюсь и делаю шаг в толпу слоняющихся заключенных. «Ты сдохнешь, ублюдок!», — кричит он мне вслед. Я останавливаюсь и разворачиваюсь. Он просто смотрит. Я хватаюсь за радио на своем плече и выдерживаю паузу. Думал ли я когда-нибудь, как поступлю случись что-либо подобное? Я знаю, как нажимать на кнопку и говорить по радио, но кого мне вызвать? Я вспомнил о Кинге, охраннике, который разбил челюсть ребенку. «Сержант Кинг, не могли бы вы спуститься в „Ясень“?», — говорю я себе в плечо.
— Иду.
Когда он прибывает, я зову его на уровень B1. И нахожу Мини-дредса.
— Его надо закрыть, — говоря я, глядя ему в глаза.
Кинг заковывает его. Я говорю Кингу, что он угрожал моей жизни. Его надо отправить в изолятор.
— Что случилось? Я такого не базарил! — кричит заключенный. Я ухожу.
Я возвращаюсь, чтобы разогнать остальных по их уровням. «За что ты закрыл его?», — спрашивает меня один заключенный. «Чувак скоро должен был пойти домой!», — кричит другой. «Теперь дом ему точно не светит». Я покидаю их, не поддаваясь давлению. Где-то в голове, однако, звучит голос: «Ты видел, чтобы он что-то говорил? Разве ты не стоял к нему спиной? Ты уверен, что ты слышал, то что слышал?» На самом деле, это ничего не значит. Он хотел унизить меня, и мне уже пора было хоть кого-то бросить в «дыру». Они должны знать, что я не слабак.
Одним утром «Ясень» пропах фекалиями. На D2 жидкое дерьмо выходит наружу из душевого слива и разбегается по всему уровню. «И так уже больше 12 часов», — говорит один из заключенных.
— Чувак, у вас червяки и прочая хуйня на полу. Я серьезно.
— Это нарушение предписаний по здоровью и безопасности!
— Чел, это жесткое и необычное наказание!
Мы позволяем заключенным выйти на небольшую уличную площадку. Пока они расползаются по своему уровню, я вижу, как большая группа на уровне A1 куда-то побежала. Бакл захлопывает двери уровня наглухо и объявляет Голубой код по радио. Двое сцепились, прижавшись телами к решеткам. Каждый держит заточку в руке, при этом другой рукой удерживая другого от удара. Капли крови пачкают пол. Вокруг все на удивление спокойно. Заключенные стоят рядом и смотрят, не проронив ни слова.
— Прекратить, — безучастно говорит Бакл. — Прекратить.
Два соперника общаются друг с другом очень тихо, практически шепотом.
— Давай, — шепчет один. — Давай, здоровяк.
— Я тебе уебу как ты тогда мне.
Они продолжают бороться.
— Прекратить! — орет Бакл.
— Ну же! — кричу я, чувствуя себя безмерно бессильным.
Мы — Бакл, мисс Прайс, внештатный работник CCA и я — стоим всего в полуметре от них, разделенные решетками, и смотрим как эти двое направили ножи друг на друга.
Один вырывает свою руку, замахивается, и его заточка углубляется в шею другого. Мое дыхание замирает на секунду, и я издаю звук удушения. «Она совсем не острая, здоровяк», — говорит тот, которого только что ударили ножом: «Дай-ка я покажу, что значит острый».
Бакл просовывает руку через решетки и берет ударившего за его капюшон, пока другой заключенный пытается вырваться. В этот раз другие заключенные начинают шуметь. «Мужик, ты его так убьешь!», — кричит один Баклу. Бакл отпускает заключенного, и двое сваливаются на пол, приземляясь в прыжке от унитаза, который мы не видим из-за короткой стены. Они продолжают ворошиться в драке. Замахиваются и бьются руками. Один из заключенных подходит к писсуару в полуметре от них и писает, пока они дерутся.
Заточка
Их драка продолжается около четырех минут, пока не приходит кто-то из SORT с перцовым баллончиком. «Не двигаться, суки», — лает он на них: «Всем лежать!» Он распыляет газ на тех двоих, когда они все пытаются ударить друг друга. Одного, у которого не хватает кусочка на ухе, везут в больницу. Другой отправляется в изолятор.
Запах перца испаряется, но запах дерьма никак не уходит. До тех пор, пока в полдень кто-то не приходит, чтобы починить туалеты и обнаружить заточку, застрявшую в канализации.
Позже я пересказываю сержанту как один из заключенных тыкал нож в шею другому заключенного.
— Ты из этого что-то вынес? — спрашивает он.
— Нет, если честно.
Заключенный мог перерезать второму горло, если бы хотел, говорит он. Но он этого не сделал. «Оба боятся. По этой причине они и делают себе заточки. Потому что они боятся».
Проверка
В конце моей смены я бодро иду по темному проходу. Я с облегчением иду домой, но после двух недель работы надзирателем на постоянной основе, я боюсь так, как не боялся сначала. Чем дольше я здесь работаю, тем у большего числа людей есть на меня обиды. Когда я иду по проходу, заключенные выходят и проходят в разные части тюрьмы, а я не вижу вокруг ни одного охранника. У меня нет радио — я обязан отдавать его охраннику, который меня отпускает. Я видел пленку с камер скрытого наблюдения, и я сомневаюсь, что съемка будет достаточно четкой, чтобы опознать того, что может прыгнуть на меня в этой темноте.
Ворота перед выходом закрыты и я меня отправляют через зону посещений. Здесь 20 или около того охранников с моей смены сидят за столами, хмурые. Два заключенных подают пиццу. Нас заперли на собрании работников компании. Заместитель начальника тюрьмы Паркер здесь. Начальник отдела безопасности. Кадровики. Я беру кусок пиццы и сажусь, раздраженный.
«Сколько людей здесь проработали меньше года?» — спрашивает Паркер. Я поднимаю руку. «У вас, наверное, было много плохих дней? Мы это изменим. Для этого нам всем надо работать вместе. Действительно надо. Пока мы остаемся хорошей командой и помним, что плохие ребята — это те, которые здесь 24 часа в день, 7 дней в неделю, которым нельзя уйти.»
На стене висит картина, на которой черный ребенок и белый ребенок лежат на животах на траве на склоне холма и смотрят на радугу. Рядом еще одна фреска, на которой лев и тигр продираются через американский флаг, а наверху летит белоголовый орлан. «Метод ССА» написано сверху.
«Компания посмотрела на происходящее, и они поняли, что нам нужно немного лучше относится к работникам в Уинне. Я не скажу, что мы махнули волшебной палочкой, и каждый выйдет отсюда и пойдет покупать новые машины, но почасовая зарплата для охранника поднимется до 10 долларов в час. Поэтому поздравляю всех, находящихся в этой комнате», — Он начинает хлопать и несколько человек присоединяются без энтузиазма. «Это станет одним из тех моментов, которыми мы будем гордится», — говорит он.
«Кто-нибудь значит, что такое АСА?», — спрашивает Паркер. «Вы когда-нибудь слышали “Скоро придет АСА. Оооу! Скоро АСА. Пора паниковать! Нажимай на кнопку тревоги!”»
— Американская ассоциация исправительных учреждений, — кто-то отвечает.
— Хорошо, почему мы волнуемся об АСА?, — спрашивает Паркер.
— Нам нужна наша работа. Нам надо пройти проверку.
— Что-то в этом духе. Годы, годы назад, мне кажется, это было в 1870-ом, один мэр был расстроен тем, что он считал наказанием, несоразмерным преступлению, — поучает Паркер. — Поэтому он собрал небольшую группу людей, которые ходили и проверяли тюрьмы и условия в тюрьмах, чтобы удостовериться, что с людьми, заключенными там, не обращались жестоко. Спустя время они начали создавать сложный процесс проверок. Поэтому третье лицо, у которого, так сказать, нет ставок в игре, приходит и смотрит, как мы обращаемся с нашими заключенными. И они ставят нам печать “Вы обращаетесь с ними надлежащим образом.”»
— Таким образом, когда мы пойдем в суд и заключенный скажет, “Ой, они заставляли меня есть пиццу из Pizza Hut. Это наказание, несоразмерное преступлению. Это должна была быть пицца из Domino!”, — когда мы пойдем в суд, мы достанем наши документы из АСА и скажем “Эй, посмотрим, вот как мы готовим нашу еду. Мы готовим еду на нашей кухне в соответствии с этими стандартами.”
АСА это торговая ассоциация, но это и самое близкое, что у нас есть к национальному регулирующему органу для тюрем. Более чем 900 государственных и частных исправительных учреждений и центров содержания под стражей аккредитованы по их стандартам. Уинн был первой аккредитованной тюрьмой в Луизиане. Вскоре после того, как Т. Дон Хутто соосновал ССА, он стал президентом АСА.
На протяжении следующих нескольких недель заключенные перекрашивали каждый блок в ходе подготовки к проверке АСА. Ремонтник измучился, пытаясь починить сломанную вентиляцию, сантехнику и двери в камерах и на этажах. («Мы не владеем объектом», — ответил мне представитель ССА, отметив, что DOC был ответственен за основные проблемы с обслуживание в Уинне. В контракте ССА прописано, что они ответственны за рутинное и превентивное обслуживание.)
В ожидании проверки, я прочел нормы АСА. Как проверяющие отнесутся к тому, что камеры в сегрегации по крайней мере на 1,85 квадратных метров меньше необходимого? Или к тому, что заключенным отводится только 10 минут на прием пищи вместо предписанных 20? Уинн не выполняет многие требования и рекомендации АСА: у нас редко когда заняты все требуемые должности; зарплата охранников несравнима с зарплатой государственных надзирателей; охранники редко когда используют металлодетекторы на входе в блоки; заключенные часто не получают ежедневного часового доступа к зоне для упражнений; еда в предотвращении самоубийств содержит меньше калорий, чем требуется; в жилых помещениях недостаточно туалетов. (В АСА не ответили на просьбу о комментарии.)
Хотя опять же, за последнюю проверку АСА, в 2012 году Уинн получил почти идеальную оценку в 99%, ту же оценку он получил за предыдущую проверку тремя годами ранее. По факту, средняя оценка ССА по всем аккредитованным тюрьмам также составляет 99%.
Утром в день проверки мы поднимаем всех и говорим им заправить кровати и снять фотографии женщин со шкафчиков. Два хорошо одетых белых мужчины заходят в «Ясень» и медленно делают круг по этажу. Единственный вопрос, который они задают нам с Баклом, это как нас зовут и чем мы занимаемся. Они не проверяют учетный журнал и не сверяют наши записи с пленкой с камер. Если бы они это сделали, они бы узнали, что некоторые камеры не работают.
Они не проверяют двери. Если бы они это сделали, они бы увидели, что их приходится открывать вручную сильно дергая, потому что большинство переключателей не работают. Они не проверяют пожарную сигнализацию, которая автоматически закрывает противодымные проемы над помещениями, чтобы открыть некоторые из которых, их приходится взламывать двум охранникам. Они не просят пройти в помещение. Они не разговаривают с заключенными. Они делают один круг и уходят.
Спустя почти двадцать лет, Ларька должны выпустить на свободу. Ему осталось всего шесть недель, потом он имеет право на досрочное освобождение «за хорошее поведение». Как кто-то возвращается в мир после двух десятилетий за решеткой, не имея там друзей или денег? Его первым шагом, рассказывает он, будет приют, до тех пор, пока он не встанет на ноги. Он пока еще не знает, куда он пойдет. Он говорит мне, что не хочет считать дни. «Это меня нервирует. Начинается тревожность. Голова начинает все время работать и думать о вещах. Как я это сделаю? Как я это сделаю? Это приводит к паническим атакам. Выйду когда выйду».
Но мечты закрадываются ему в голову. «Я куплю себе большую бутылку Каопектата (лекарство от диареи — прим. Newoчем), большой немецкий шоколадный торт, 20-литровую упаковку молока», — рассказывает он. «Просто чтобы избавиться от этого, вот что я тебе скажу». Мы на улице, разговариваем через забор, он в маленьком дворе, я на проходе в «Ясень». «После этого, я хочу блюдо с морепродуктами, настоящее блюдо с морепродуктами размером с кухонный стол, только для нас с мамой. Когда попаду домой, все ради мамы».
Он кладет руку на забор и наклоняется. «Я вот что говорю, парень: Я просто хочу повеселиться. И веселье не значит я-попадаю-в-неприятности веселье. Веселье значит просто удовольствие от жизни. Я хочу иметь возможность снять свою блядскую обувь и носки и ходить по песку. Я хочу иметь возможность выйти на улицу в шортах и домашних тапочках и стоять под дождем и просто —» он разводит руки, поднимает лицо к небу и открывает рот. «Вот по этому я скучаю. Ты не можешь здесь этого делать. Все, что я хочу сказать: Когда меня выпустят, я не хочу больше выпячивать грудь. Это больно. Я тащил этот вес на плечах 20 с чем-то лет, и я готов скинуть его, потому что это тяжелая ноша».
Автор: Шейн Бауэр, Mother Jones. Перевели: Георгий Лешкашели, Кирилл Козловский, Екатерина Евдокимова,Влада Ольшанская и Артём Слободчиков. Редактировали: Артём Слободчиков, Анна Небольсина, Поликарп Никифоров и Егор Подольский. NEWОЧЁМ
Шейн Бауэр — автор статей об одиночном заключении, милитаризации полиции и Ближнем Востоке. Вместе с Сарай Шоурд и Джошуа Фатталом он написал книгу «Луч света в темном царстве» («Sliver of Light»), в которой рассказывается о том, как он провел два года в иранской тюрьме.
Tweet