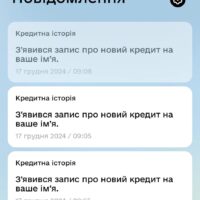Как я выжила в китайском лагере перевоспитания для уйгуров

После 10 лет жизни во Франции я вернулась в Китай, чтобы подписать кое-какие бумаги, и оказалась за решеткой. В течение последующих двух лет я систематически подвергалась бесчеловечному отношению, унижениям и идеологической обработке.
Мужчина на другом конце провода сказал, что он работает в нефтяной компании: «В бухгалтерии, если точнее». Его голос был мне незнаком. Сначала я даже не поняла, зачем он мне звонит. Это было в ноябре 2016 года, и я была в неоплачиваемом отпуске уже 10 лет — с тех пор, как уехала из Китая во Францию. На линии были помехи, и я едва его слышала.
«Госпожа Хайтиваджи, вам нужно приехать в Карамай, чтобы подписать документы для предстоящего выхода на пенсию», — сказал он. Карамай — город в провинции Синьцзян на западе Китая, где я более 20 лет работала на эту самую нефтяную компанию.
«Я хотела бы оформить доверенность. У меня есть друг в Карамае, который помогает мне в юридических вопросах. Зачем мне возвращаться ради каких-то бумаг? Зачем проделывать весь этот путь ради такого пустяка? Почему именно сейчас?»
Человек не смог мне ответить. Он просто сказал, что перезвонит через два дня, когда уточнит, можно ли моему другу решить этот вопрос от моего имени.
Мой муж Керим покинул Синьцзян в поисках работы в 2002 году. Сперва он попытал счастья в Казахстане, но через год вернулся ни с чем. Затем он отправился в Норвегию. После этого — во Францию, где подал заявление на получение статуса беженца. Вместе с двумя дочерьми я собиралась приехать к нему, как только он устроится на новом месте.
Керим всегда знал, что уедет из Синьцзяна. Эта идея укоренилась в его сознании еще до того, как мы устроились в нефтяную компанию. Мы познакомились в Урумчи, крупнейшем городе провинции Синьцзян, еще студентами, а после выпускного принялись искать работу. Это было в 1988 году. В газетных объявлениях часто можно было увидеть небольшую приписку мелким шрифтом: уйгурам не беспокоить. Он никогда не смог этого забыть. Я пыталась не обращать внимания на признаки дискриминации, повсюду преследовавшие нас, а Керим не мог с этим смириться.
После выпуска нам предложили работу инженерами в нефтяной компании в Карамае. Нам повезло. Но потом произошел случай с красными конвертами. На китайский Новый год начальник выдавал годовые премии. Сумма, выданная уйгурам, оказалась меньше суммы, выданной ханьцам — представителям крупнейшей народности Китая. Вскоре после этого все уйгуры были переведены из центрального офиса на окраину города. Небольшая группа возражала, но я не посмела. Несколько месяцев спустя открылась вакансия на руководящую должность, и Керим выдвинул свою кандидатуру на рассмотрение. У него были необходимые квалификация и трудовой стаж. Не было ни одной причины, по которой ему бы могли отказать. Но позицию получил ханец без инженерного образования. Однажды вечером, в 2000 году, Керим пришел домой и объявил, что он уволился. «С меня хватит», — сказал он.
То, что испытывал мой муж, было хорошо знакомо всем нам. После того, как в 1955 году коммунистический Китай аннексировал Синьцзян в качестве «автономного района», мы, уйгуры, были бельмом на глазу государства. Синьцзян — это стратегический коридор. Он представляет слишком большую ценность для Коммунистической партии и риск его потери недопустим. Партия слишком много вложила в новый шелковый путь — инфраструктурный проект, предназначенный для соединения Китая с Европой через Центральную Азию, а наш регион является важной осью этого пути. Синьцзян имеет ключевое значение для великого плана Си Цзиньпина: обустроить мирный Синьцзян, открытый для бизнеса, без сепаратистских настроений и межэтнической напряженности. Если в трех словах — Синьцзян без уйгуров.

Мы с дочерьми сбежали во Францию к Кериму в мае 2006 года, прямо перед наступлением в Синьцзяне периода беспрецедентных репрессий. Дочерям на тот момент было 13 и 8 лет, они получили статус беженцев, как и их отец. Подав заявление на получение статуса беженца, мой муж бесповоротно порвал с прошлым. Получив французский паспорт, он лишился гражданства КНР. Но для меня перспектива отказа от гражданства была сопряжена с ужасными последствиями: я никогда не смогу вернуться в Синьцзян. Как я могу распрощаться со своими корнями, с любимыми людьми, которых я там оставила — родителями, братьями и сестрами, их детьми? Я представляла, как моя мать стареет и умирает в одиночестве в своей деревеньке в горах на севере. Отказаться от китайского гражданства значило бы отказаться и от нее. Я не могла так поступить. Вместо этого я подала документы для получения вида на жительство, который нужно продлевать каждые 10 лет.
Повесив трубку, я какое-то время блуждала пустым взглядом по тихой гостиной нашей квартиры в Булоне, а в моей голове гудел рой вопросов. Почему ему нужно, чтобы я вернулась в Карамай? Вдруг это уловка, чтобы полиция смогла меня допросить? Ни с кем из моих знакомых уйгуров, живущих во Франции, подобного не происходило.
Через два дня мужчина перезвонил. «Доверенности будет недостаточно, госпожа Хайтиваджи. Вы должны приехать в Карамай лично». Я сдалась. В конце концов нужно было всего лишь разобраться с парой документов.
«Хорошо, я приеду, как только смогу», — сказала я.
Когда я повесила трубку, по моей спине пробежали мурашки. Мысль о возвращении в Синьцзян приводила меня в ужас. Керим уже два дня изо всех сил старался успокоить меня, но я не могла избавиться от плохого предчувствия. В это время года Карамай заключен в оковы суровой зимы. Порывы ледяного ветра завывают на проспектах, между магазинами, жилыми многоэтажками и другими зданиями. Редкие закутанные фигуры вжимаются в стены в попытках бороться со стихией, но в остальном на улице обычно ни души. Однако больше всего я боялась строжайших правил, установленных в Синьцзяне. Любой вышедший за порог своего дома мог быть арестован безо всякой на то причины.
Это не было чем-то новым, но деспотизм стал выражен еще ярче после волнений в Урумчи, произошедших в 2009 году и приведших к всплеску насилия между уйгурским и ханьским населением города, в результате которого погибло 197 человек. Это событие послужило поворотной точкой в современной истории региона. Позднее Коммунистическая партия Китая обвинит в этих ужасных событиях целую этническую группу, оправдывая свою репрессивную политику тем, что уйгурские семьи якобы являются рассадником радикального ислама и сепаратизма.
Летом 2016 года в длительном противостоянии между нашим народом и партией появилась новая важная фигура. Чэнь Цюаньго, заслуживший свою репутацию введением драконовских мер по слежению за населением Тибета, был назначен главой провинции Синьцзян. С его прибытием репрессии в отношении уйгуров значительно ужесточились. Тысячи людей были отправлены в «школы», построенные на окраинах буквально за одну ночь. Эти учреждения были известны как лагеря «преобразования через образование». Задержанных посылали туда для идеологической обработки и вещей похуже.
Я не хотела возвращаться, но все-таки решила, что Керим был прав: у меня нет причин волноваться. Поездка займет всего пару недель. «Они наверняка заберут тебя для допроса, но не волнуйся. Это совершенно нормально», — убеждал он меня.
Через несколько дней после прибытия в Китай, утром 30 ноября 2016 года, я отправилась в офис в Карамае, чтобы подписать наконец злосчастные документы, связанные с моим предстоящим выходом на пенсию. В офисе с облупившимися стенами сидел бухгалтер — ханец с постным голосом, и его секретарь, сгорбившийся за монитором.
Следующим пунктом моего путешествия оказался полицейский участок в 10 минутах езды от головного офиса компании. В пути я подготовилась к ответу на вопросы, которые мне, скорее всего, будут задавать. Я пыталась сохранить самообладание. После того, как я оставила все свои личные вещи на столе у дежурного, меня провели в узкое и невзрачное помещение — комнату для допросов. Я никогда не бывала в таких местах раньше. По ту сторону от стола было два стула для полицейских. Атмосферу помещения задавали тихий гул обогревателя, небрежно протертая белая доска и тусклое освещение. Мы обсудили причины, по которым я уехала во Францию, мою работу в пекарне и кафе в Ла-Дефанс — деловом квартале Парижа.
Затем один из офицеров сунул мне под нос фотографию. Кровь застучала у меня в ушах. Я увидела лицо, знакомое мне как мое собственное — пухлые щечки, тонкий носик. Это была моя дочь Гульхумар. Она позировала перед дворцом Трокадеро в Париже, закутанная в черное пальто, которое я ей подарила. Она улыбалась мне с фотографии, а в ее руке был маленький флаг Восточного Туркестана — флаг, запрещенный правительством Китая. Для уйгуров этот флаг символизирует движение за независимость региона. Фото было сделано во время одной из демонстраций, организованных французским представительством Всемирного уйгурского конгресса, представляющего уйгуров в эмиграции и выступающего против репрессивной политики, проводимой КНР в Синьцзяне.

Независимо от того, вовлечены ли вы в политику, во Франции такого рода мероприятия — это прежде всего возможность для общины собраться всем вместе, почти как дни рождения, мусульманские религиозные праздники и Новруз — праздник прихода весны. Вы можете пойти туда, чтобы протестовать против репрессий, происходящих в Синьцзяне, а можете, как Гульхумар, пойти туда, чтобы увидеться с друзьями и товарищами по эмиграции. Какое-то время Керим часто посещал такие мероприятия. Девочки бывали на них один или два раза. Я не ходила ни разу. Политика — это не мое. С тех пор, как мы оставили Синьцзян, я всё больше отстранялась от этого.
Внезапно офицер ударил кулаком по столу.
– Ты знаешь ее?
– Да. Это моя дочь.
– Твоя дочь – террористка!
– Нет. Я не знаю, как она оказалась на той демонстрации.
– Я не знаю, я не знаю, как она там оказалась. Она не делала ничего плохого, клянусь! Моя дочь не террорист! И мой муж тоже!
Я не помню остальную часть допроса. Все что я помню — то фото, их агрессивные вопросы и мои тщетные оправдания. Я не знаю, сколько это продолжалось. Я помню, что, когда это все закончилось, я раздраженно сказала: «Я могу наконец идти? Мы закончили?». Тогда один из них сказал: «Нет, Гульбахар Хайтиваджи, мы не закончили».
«Правой! Левой! Вольно!» В помещении нас было 40, все — женщины в синих пижамах. Это был ничем не примечательный учебный класс. Массивные металлические ставни с крошечными отверстиями впускали свет, но скрывали от нас внешний мир. Каждый день наш мир сжимался до размеров этой комнаты на 11 часов. Линолеум скрипел под тапочками. Два китайских солдата безжалостно задавали ритм, пока мы маршировали по комнате вперед и назад. Это называлось «физкультурой». В действительности это была практически военная муштра.
Наши изможденные тела двигались сквозь пространство в унисон, вперед и назад, бок о бок. Когда солдат на мандаринском китайском ревел «Вольно!», строй заключенных замирал. Он приказывал нам не двигаться. Это могло продолжаться полчаса или, с такой же вероятностью, целый час, а то и больше. В такие моменты ноги затекали, и мы начинали чувствовать покалывание. Разгоряченные и напряженные, мы изо всех сил пытались удержать равновесие. Воздух был горячий и влажный. Мы чувствовали собственный запах изо рта. Мы тяжело дышали, словно скот. Иногда кто-то падал без сил. Если женщина не могла прийти в себя, надзиратель рывком ставил ее на ноги и приводил в чувство пощечинами. Если она падала еще раз, ее вытаскивали из комнаты и мы больше ее не видели. Никогда. Сначала это меня шокировало, но потом я привыкла. Можно привыкнуть к чему угодно, даже к ужасу.
Это было в июне 2017 года, я была там уже три дня. После того, как я провела в полицейских камерах Карамая почти пять месяцев, между допросами и немотивированными актами жестокости (в один из таких моментов меня приковали к кровати на 20 дней в качестве наказания, хотя я так и не узнала, за что) мне сказали, что меня отправят в «школу». Я никогда не слышала об этих таинственных школах и о том, чему там обучают. Мне сказали, что правительство построило их для «перевоспитания» уйгуров. Женщина, с которой я сидела в одной камере, сказала мне, что это похоже на обычную школу, только с преподавателями-ханьцами. Она сказала, что, после того как мы пройдем обучение, нас отпустят домой.
Эта «школа» располагалась в районе на окраине Карамая. Я узнала это лишь благодаря тому, что на пути из полицейского участка сумела разглядеть указатель, торчавший из засохшей канавы, по которой метались пустые целлофановые пакеты. Предполагалось, что тренировки займут две недели. Затем должны начаться теоретические уроки. Я не знала, выдержу ли. Как я до сих пор не сломалась? Байцзяньтань был пустырем, где теперь выросли три здания, каждое размером с небольшой аэропорт. За оградой из колючей проволоки не было ничего, кроме пустыни до горизонта.

В первый день надзирательница привела меня в общую комнату, заставленную кроватями, представлявшими собой простые нары с деревянными табличками с номерами. Там уже была одна женщина: Надира, койка № 8. Мне присвоили койку № 9.
Надира показала мне комнату, в которой стоял резкий запах свежей краски: ведро для справления нужды, которое она сердито пнула; окно с постоянно закрытыми металлическими ставнями; две камеры, расположенные под потолком в углах комнаты и поворачивающиеся из стороны в сторону. Больше там ничего не было. Не было матрасов. Не было мебели. Не было туалетной бумаги. Не было простыней. Не было раковины. В этом полумраке были только мы двое и грохот тяжелых тюремных дверей.
Это была не школа. Это был лагерь перевоспитания с военными правилами и явной целью сломить содержащихся в нем людей. Нас принуждали к тишине, мы дошли до физического предела, когда нам больше не хотелось говорить. Через какое-то время наши разговоры сошли на нет. Наши дни были разделены командами свистка на прогулку, на прием пищи, на отбой. Надзиратели всегда наблюдали за нами; скрыться от них было невозможно, мы не могли шептать, вытереть рот или зевнуть из-за страха быть обвиненными в молитве. Правила запрещали отказываться от еды. Иначе можно было оказаться обвиненным в «исламском терроризме». Надзиратели утверждали, что наша пища была халяльной.
Ночью, лежа на койке, я впадала в прострацию. Я потеряла ощущение времени. Там не было часов. Я угадывала время дня по тому, насколько мне было холодно или жарко. Я по-настоящему боялась надзирателей. С тех пор как мы прибыли, мы не видели дневного света — все окна были закрыты проклятыми металлическими ставнями. Хотя один из полицейских говорил, что мне дадут телефон, это оказалось неправдой. Знал ли хоть кто-нибудь о том, что меня держат здесь? Они оповестили мою сестру, Керима или Гульхумар? Все это было кошмаром наяву. Под равнодушным взглядом камер наблюдения я не могла открыться даже своим товарищам по заключению. Я устала, очень устала. Я даже не могла больше думать.
Лагерь казался мне лабиринтом. Надзиратели водили нас по нему группами из заключенных, живших в одной комнате. Перед тем как попасть в душевые, уборную, учебный класс или столовую, мы должны были пройти под конвоем по веренице бесконечных коридоров, подсвеченных люминесцентными лампами. Сама возможность хотя бы минутного уединения была немыслима. В обоих концах коридоров были установлены автоматические двери системы безопасности, запечатывающие лабиринт подобно воздушным шлюзам. Одно можно было сказать наверняка: все здесь было новым. Запах краски от безупречно чистых стен постоянно напоминал об этом. Здание, где нас содержали, было похоже на помещения какого-то завода (позднее я узнала, что это была территория переоборудованного полицейского участка), но я даже не представляла его реальные масштабы.
Учитывая большое количество надзирателей и других женщин-заключенных, мимо которых нам приходилось проходить, я пришла к выводу, что лагерь был действительно огромен. Каждый день я видела новые лица, все словно полумертвые, с мешками под глазами. К концу первого дня в нашей камере было 7 человек; через три дня нас было 12. Немного математики: я насчитала группы из 16 камер, включая мою, в каждой камере 12 коек, и все заняты. Это значит, что в Байцзяньтане было почти 200 заключенных. Две сотни женщин, оторванных от их семей. Две сотни людей, живущих взаперти до особого распоряжения. При этом лагерь продолжал пополняться.
Вновь прибывших можно было узнать по их лицам, полным отчаяния. Они все еще надеялись встретиться с тобой взглядом. Те, кто был в этом месте дольше, смотрели себе в ноги. Они шаркали по коридорам в тесном строю, как роботы. Они вытягивались в струнку по свистку, не моргнув и глазом. Господи, что же с ними делали, чтобы довести до этого?
Я думала, что теоретические занятия позволят нам немного выдохнуть после физических тренировок, но стало только хуже. Учитель непрерывно следил за нами и раздавал пощечины по малейшему поводу. Одна из моих одноклассниц, женщина за 60, закрыла глаза, наверняка от утомления или страха. Учитель жестоко ударил ее ладонью по лицу. «Думаешь, я не вижу, что ты молишься? Тебя ждет наказание!» Надзиратели бесцеремонно выволокли ее из класса. Через час она вернулась с какими-то записями: критикой собственного поведения. Учитель заставил ее прочитать записи перед классом. Она подчинилась, ее лицо было белее бумаги. Затем она снова села за парту. Она всего лишь закрыла глаза.
Через несколько дней я поняла, что люди имеют в виду, когда говорят о «промывке мозгов». Каждое утро в наш тихий класс входила наставница-уйгурка. Женщина нашей национальности, которая учила нас быть китайцами. Она относилась к нам как гражданам, сбившимся с пути и нуждающимся в перевоспитании силами партии. Мне интересно, что она обо всем этом думала. Думала ли она вообще? Откуда она? Как она там оказалась? Была ли она сама перевоспитана, прежде чем приступить к этой работе?
По ее сигналу мы вставали как один. Приветствие служило началом для отсчета 11-часового учебного дня. Мы читали по памяти своего рода присягу на верность Китаю: «Спасибо нашей великой стране. Спасибо нашей партии. Спасибо нашему дорогому председателю Си Цзиньпину». Вечером уроки заканчивались примерно тем же: «Я желаю моей великой стране развития и светлого будущего. Я желаю объединения всех народностей в единую великую нацию. Я желаю крепкого здоровья председателю Си Цзиньпину. Да здравствует председатель Си Цзиньпин».

Лишенные возможности оторваться от стула, мы повторяли уроки, как попугаи. Они учили нас славной истории Китая — цензурированной версии, избавленной от темных пятен. Пособие называлось «Программа переобучения». Всё его содержание состояло из историй о могущественных династиях, их выдающихся завоеваниях и великих достижениях Коммунистической партии. Оно было еще более политизировано и предвзято, чем то, чему учили в китайских университетах. В первые дни это меня смешило. Они действительно думают, что нас можно сломить парой страниц пропаганды?
Однако коварная усталость копилась день за днем. Я была истощена, но всё же старалась сохранять твердую решимость сопротивляться. Я пыталась не поддаваться, но школа продолжала давить медленно и неутомимо. Она давила нас, наши изможденные тела, словно паровой каток. Это была настоящая промывка мозгов — целый день повторения одних и тех же идиотских фраз. И, будто этого было недостаточно, перед отбоем мы должны были провести за учебой еще один дополнительный час после ужина. Каждую пятницу у нас были устные и письменные тесты. По очереди, под пристальным надзором руководителей лагеря, мы наизусть зачитывали коммунистическую бредятину, которую в нас забивали.
Краткосрочная память стала одновременно лучшим другом и злейшим врагом. Она позволила впитывать и механически повторять тома истории и торжественные заявления о гражданской верности, чтобы избежать публичных унижений от учителя. Но в то же время она ослабила критическое мышление. Мы лишились воспоминаний и мыслей, которые связывали нас с жизнью. Спустя какое-то время я не могла четко представить лица Керима и дочерей. Нас обрабатывали до состояния отупевших животных. Никто не говорил нам, сколько это продлится.
С чего я могла бы начать свой рассказ о том, через что прошла в Синьцзяне? Как рассказать людям, которых я люблю, что моя жизнь зависела от милости полицейских, творивших произвол, от милости уйгуров, таких же, как и я, но облачившихся в униформу, позволявшую им делать с нами, нашими телами и душами что угодно? Как рассказать о мужчинах и женщинах, прошедших полную идеологическую обработку, — роботах, лишенных человечности, фанатично исполняющих приказы, о жалких бюрократишках, обслуживающих систему, в которой люди, не желающие доносить на других, сами становятся жертвами доноса, а люди, не желающие наказывать других, сами подвергаются наказанию? Убежденные в том, что мы враги, которых необходимо уничтожить, — изменники и террористы — они отняли нашу свободу. Они посадили нас в клетки, словно животных, куда-то за пределы времени и остального мира — в лагеря.
В лагерях «преобразования через образование» жизнь и смерть воспринимаются иначе, чем за их пределами. Неисчислимое множество раз, проснувшись посреди ночи от шагов надзирателей в коридоре, я думала о том, что пришло время казни. Когда одна рука ожесточенно водила машинкой для стрижки по моему черепу, а другие руки сметали пучки волос, падающие мне на плечи, я закрыла глаза, затуманенные слезами, думая о том, что скоро наступит мой конец, о том, что меня готовят к виселице, электрическому стулу, утоплению. Смерть таилась за каждым углом. Когда медсестры хватали мою руку, чтобы «вакцинировать», я думала, они собираются меня отравить. На самом деле они стерилизовали нас. Именно тогда я поняла принцип работы и стратегию лагерей: вместо хладнокровного уничтожения нас хотят привести к постепенному исчезновению. Настолько постепенному, что никто не заметит.
Нам приказывали отказаться от того, кем мы являлись. Наплевать на наши традиции, наши убеждения. Критиковать наш язык. Оскорблять наш народ. Женщины, сумевшие выйти из лагерей — больше не те, кем они когда-то были. Мы — тени, наши души мертвы. Меня заставляли верить в то, что люди, которых я люблю, мой муж и мои дочери, были террористами. Я была так далеко, я была так одинока, так истощена и отчуждена, что почти поверила в это. Мой муж Керим, мои дочери Гульхумар и Гульнигар — я осудила ваши «преступления». Я молила Коммунистическую партию о прощении за злодеяния, которые ни вы, ни я не совершали. Я жалею о каждом моем слове, бесчестящем вас. Но я жива, и я хочу рассказать правду. Я не знаю, примите ли вы меня, я не знаю, простите ли вы меня.
Как я могу начать свой рассказ о том, что здесь произошло?
Меня держали в Байцзяньтане два года. В течение этого времени все, кто был вокруг меня, — полицейские офицеры, приходившие допрашивать заключенных, надзиратели, учителя и наставники — пытались заставить меня поверить в огромную ложь, без которой Китай не мог бы оправдать проект по перевоспитанию: ложь о том, что уйгуры террористы, и, поэтому, я, Гульбахар, будучи уйгуркой и проживая в эмиграции во Франции в течение 10 лет, являюсь террористом. Волны пропаганды одна за другой разбивались о мои убеждения, и по прошествии месяцев я начала терять часть своего рассудка. Моя душа треснула, и ее осколки потеряны. Я никогда не смогу их вернуть.
Во время жестоких допросов в полиции я прогнулась под ударами так сильно, что оговорила себя. Они убедили меня, что чем раньше я признаю свои преступления, тем раньше я смогу выйти. В конце концов, потеряв все силы, я сдалась. У меня не было другого выбора. Никто не может сражаться с собой вечно. Не важно, насколько упорно вы сопротивляетесь промывке мозгов, она достигает своей подлой цели. Все желания и страсти оставляют вас. Что вам остается? Медленное и болезненное погружение в смерть или подчинение. Если вы только изображаете подчинение, если вы делаете вид, что потеряли волю к психологическому сопротивлению полиции, тогда вы хотя бы цепляетесь, вопреки всему, за последние частицы ясного рассудка, позволяющие сохранить память о том, кто вы на самом деле.
Я не верила ни одному слову, из того, что говорила им. Я просто изо всех сил пыталась быть хорошей актрисой.
2 августа 2019 года, после короткого суда, перед аудиторией, состоящей из нескольких человек, судья города Карамай признал меня невиновной. Я едва слышала его слова. Я слушала решение так, будто оно не имело ко мне никакого отношения. Я думала обо всех моментах, когда заявляла о своей невиновности, обо всех ночах, когда я металась по койке в бессильной ярости из-за того, что никто мне не поверит. Еще я думала обо всех моментах, когда я признавала то, в чем меня обвиняли, обо всех своих ложных признаниях, обо всей лжи.
Они приговорили меня к семи годам перевоспитания. Они пытали мое тело и довели мое сознание до грани безумия. А теперь, пересмотрев мое дело, судья решил: нет, на самом деле, я не виновна. Я могла быть свободна.
Некоторые имена были изменены. Перевод на английский выполнил Эдвард Говен. Эта статья является отредактированной выдержкой из книги Rescapée du Goulag Chinois (Выжившая из китайского ГУЛАГа), написанной Гульбахар Хайтиваджи в соавторстве с Розенной Моргат и опубликованной издательским домом Editions des Equateurs.
По материалам The Guardian
Авторы: Гульбахар Хайтиваджи при участии Розенн Моргат
Фотография: Эммануэль Маршадур
Переводил: Андрей Показаньев
Источник: NEWOCHEM
Tweet