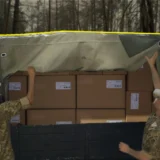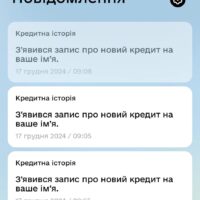Граждане пираты
«Высшая точка массового террора падает на первую половину 1938 года. В последующие месяцы давление несколько снизилось». Вряд ли кто-либо усомнится, что речь идет о сталинских репрессиях, и это действительно так: приведенная цитата взята из исторического исследования Роберта Конквеста «Большой террор». Но когда я, не называя автора, произнес ту же фразу в кругу тайских друзей, те согласно закивали головами: да, все так и было, этот период оказался самым кровавым в истории судопроизводства их страны.
О сталинском терроре знает весь мир. О политических процессах, сотрясавших в конце тридцатых далекий Сиам, за его пределами известно лишь немногим исследователям. Да и сам масштаб репрессий представляется несопоставимым: миллионы узников в СССР – и тысячи в Сиаме. Причем из этих тысяч было казнено лишь… 18 человек. По современным меркам? это как бы и вообще не репрессии: ООН давно уже не удостаивает внимания несравнимо более страшные человеческие потери, привычно относя их к печальным, но неизбежным результатам мелких региональных конфликтов.
Но в самом Таиланде свой 38-й помнят. Уж слишком контрастно он выглядит на фоне общего хода развития этого буддистского королевства, никогда до этого не знавшего ни трибуналов, ни тем более расстрельных приговоров. Первые признаки тревожных перемен появились в июне 1932 года, когда революционные повстанцы провозгласили одним из своих лозунгов, казалось бы, совершенно невинное «Граждане, а не подданные!». Движущей силой переворота явилась неудовлетворенная медленным продвижением по службе армейская хунта, подстрекаемая группой социалистически настроенных реформаторов во главе с молодым приверженцем марксизма Приди Баномьенгом.
Тремя главными итогами бескровного переворота стали (помимо появления массы новых генералов и полковников, разумеется) замена Королевского совета на Народный комиссариат, замена королевских указов на декреты и, наконец, замена прежнего многообразия почтительных тайских обращений на единообразное «гражданин». Российские читатели могут усмотреть во всем этом определенное сходство с нашими событиями начала прошлого века – и не слишком ошибутся. В Кембридже, где получила свое образование заметная часть будущих тайских революционеров, ленинские идеалы борьбы за права трудового народа были тогда весьма популярны: именно благодаря этой популярности НКВД не понадобилось практически никаких усилий, чтобы завербовать свою знаменитую «кембриджскую пятерку». Ни Филби, ни Блант, ни прочие ее участники исключениями отнюдь не были. Будь у наших резидентов побольше наблюдательности и денег – в советские шпионы с энтузиазмом записался бы едва ли не весь университет.
По счастью, отличий от Великого Октября в Сиаме имелось больше, чем сходства. Прежде всего монархия пользовалась у населения неколебимым авторитетом, причем авторитет этот был вполне заслуженным: за время правления своей королевской династии тайцы никогда не знали ни рабства, ни колониальной зависимости. Да и само слово «Таи» означало «свободный», в чем не раз убеждались вторгавшиеся в страну тайцев полчища бирманских, вьетнамских, кхмерских завоевателей: ни одна из бесчисленных попыток поработить Сиам успехом не увенчалась.
При таких условиях провозглашение лозунга «Долой короля!» было бы равносильно самоубийству. Поэтому прагматик Баномьенг поставил перед участниками переворота ограниченную цель: превратить абсолютную монархию в конституционную. Он верил, что дальнейшее движение к социализму осуществится волей народа, а лишенный инструментов власти гражданин Рама VII ни в чем не сможет воспрепятствовать развитию прогресса. Король препятствовать переименованию своих подданных в граждан и впрямь не стал. Будучи последовательным буддистом, он считал, что основой праведной жизни всегда являются дела, а не слова. Зато у военной хунты слово «национализация», все чаще повторявшееся Баномьенгом, вызвало самое активное неприятие: граждане офицеры затевали революцию вовсе не ради раздачи гражданам беднякам своих плантаций, наделов и лесопилок.
Поскольку уважение к частной собственности разделяло с офицерами немало торговцев, ремесленников, промышленников и удаленных из правительства аристократов, то Баномьенг поспешил наложить на всех недовольных его декретами клеймо антинародных мятежников, использовав против них новые для Сиама революционные меры: разгон собраний, запрет на демонстрации, массовые аресты. Когда к началу 1935 года за решеткой очутились сотни видных общественных деятелей, ученые-экономисты, министры, уважаемые журналисты и даже несколько членов королевской семьи, возмущенный Рама VII заявил, что отрекается от престола, ибо не хочет править страной, где буддисты применяют насилие по отношению к другим буддистам. Отбывая в Лондон, король передал трон своему обучавшемуся в Швейцарии 10-летнему наследнику Раме VIII, до совершеннолетия которого делами монархии должен был управлять Совет регентов при Национальной ассамблее.
Население охотно соглашалось зваться гражданами, но, точь-в-точь как и король, отказывалось понимать правомерность насильственных декретов. Национальная ассамблея все чаще становилась выразителем этих настроений, поэтому вторая половина тридцатых годов прошла в Сиаме под знаком нарастающих репрессий и постоянной грызни между партийными фракциями. Ее накал достиг такой степени, что однажды бежать за пределы Сиама пришлось даже самому Баномьенгу, обвиненному в связях с эмиссарами зарубежных компартий. Неугомонный сторонник прогресса сумел вернуться к власти уже через год, свергнув прежнее правительство при помощи очередной группы недовольных военных во главе с полковником Пибулом Сонгкраном.
Победа Баномьенга ознаменовалась торжественным присвоением Сиаму нового названия «Свободная страна» (Таиланд), что, впрочем, ничуть не помешало дальнейшему заполнению тюрем гражданами, ожидающими суда. Многие из них находились в камерах по пять-шесть лет, но до процессов дело никак не доходило, потому что составы судов непрерывно менялись из-за арестов самих судей. При диктаторе Сонгкране межфракционная политическая борьба утихла, Баномьенг получил ключевой для дела прогресса пост министра внутренних дел, и 1938 год стал временем открытия столь долго откладывавшихся судебных процессов.
Все это вроде бы должно указывать на схожесть тайских событий с советскими, но уже первые судебные заседания, широко освещавшиеся бангкокской прессой, продемонстрировали разительные отличия от практики «синхронных» по времени московских процессов. Вины Баномьенга в том не было. Просто рядовые тайцы восприняли дарованное им революцией звание граждан так, как и положено людям с многовековой традицией свободы: в качестве законного подтверждения равенства своих прав. И когда гражданин обвинитель пытался уличить гражданина обвиняемого в предательстве, тот под сочувственные возгласы зала спокойно отвечал, что и он, и его предки хранили верность Сиаму на протяжении девяти столетий.
Эта верность легко подтверждается летописями и добрым мнением соседей. Тогда как домыслы о предательстве решительно ничем не подтверждаются, вызывая жалость к человеку, который лишает себя клеветой всяких шансов на успешное перевоплощение в будущей жизни. Допущенные на процессы французские и английские наблюдатели только диву давались, глядя, с каким достоинством держатся исхудавшие на тюремном пайке ремесленники, врачи, деревенские старейшины, не говоря уже об аристократах, военных и бывших чиновниках королевской администрации.
Священнослужители на скамьях подсудимых отсутствовали: Сонгкран с Баномьенгом хорошо понимали, что арест любого буддистского монаха был бы чреват для режима такими необратимыми последствиями, по сравнению с которыми показалась бы пустяком даже попытка опорочить институт монархии, – и поэтому безропотно примирились с категорическим отказом духовенства поддержать диктатуру.
Решимость тайского общества сплоченно защищать свою национальную религию и свои гражданские права была не единственным препятствием, осложнявшим в 1938 году жизнь бангкокских обвинителей. В пылу политических распрей революционеры не удосужились создать собственный криминальный кодекс и теперь оказались вынужденными использовать древнее Уложение о наказаниях, где упоминалось только одно-единственное политическое преступление: измена королю. Доказать, что люди, поддерживавшие короля, на самом деле ему изменяли, вероятно, не составило бы никакого труда для Ульриха или Вышинского, но таиландские юристы слабо владели искусством диалектики. Один за другим граждане прокуроры приносили гражданам обвиняемым свои почтительнейшие извинения, граждане председатели судов подавали в отставку, а граждане журналисты гадали, когда же, наконец, подаст в отставку сам гражданин министр внутренних дел.
Ни в какую отставку Приди Баномьенг подавать не собирался. Он разрешил процессуальный тупик в лучших марксистских традициях: поскольку многие заключенные из числа особо ненавистной ему аристократии принадлежали к военной касте, то их дела были внезапно засекречены в качестве воинских преступлений и переданы для закрытого рассмотрения революционными трибуналами. Всего через три дня газеты сообщили ошеломленным читателям о первой партии из 18 расстрелянных. Вторая партия своей очереди не дождалась: уже на следующее утро улицы городов страны заполнили толпы возмущенных тайцев, готовых отстоять право своих сограждан на свободу. К ним присоединились монахи множества буддистских монастырей. Никакого оружия они, разумеется, не имели, но для режима уже само их появление среди протестующих было куда страшнее жерл тяжелой артиллерии.
Направляя дела в секретное производство, Баномьенг полагал, что приговор ревтрибунала устрашит всех недовольных властью, позволив ему проводить дальнейшие репрессии без всяких юридических помех. Вместо этого он получил взрыв народного негодования, мгновенно поставивший Таиланд на грань гражданской войны. Более всего министра поразил тот факт, что детонатором взрыва оказалась судьба каких-то аристократов, которых, по всем революционным канонам, широким народным массам следовало бы ненавидеть особо жгучей ненавистью. В любом случае отступать перед мятежниками Баномьенг не собирался, продолжая верить, что вид нацеленных на толпу пулеметов заставит ее мгновенно разойтись.
Легко себе представить, как далее развивались бы события в странах, не исповедующих буддизм, но в Таиланде гражданская война так и не началась. Во избежание всеобщего кровопролития семьдесят самых видных политических заключенных выступили с обращением к нации, где согласились добровольно подвергнуться грозившей им пожизненной каторге – с тем, чтобы остальные ожидающие приговоров узники были освобождены, а сограждане разошлись бы по домам. Взвесив все «за» и «против», гражданин министр согласился: международный престиж режима был низок как никогда, и мирное разрешение конфликта, несомненно, способствовало бы его укреплению.
Угроза уличных боев миновала, но тут возникла новая проблема: управление исправительно-трудовых работ Таиланда не располагало лагерями для политических заключенных, а размещать уважаемых всей страной людей в обычных колониях для уголовников генеральный директор управления Прем Фонвичай наотрез отказался. Самым убедительным аргументом в свою пользу директор считал невозможность обеспечить в колониях ту полную изоляцию, которую подразумевала категория «Особо опасные государственные преступники». Баномьенг считал доводы гендиректора бюрократическими отговорками и настаивал на незамедлительном переводе приговоренных из тюрем в лагерь.
Фонвичая неожиданно выручил один из его подчиненных – комендант Нарит Онтонг, прибывший в Бангкок из провинциальной исправительной колонии согласовывать план ее снабжения в новом, 1939 году. Согласование двигалось плохо. Шеф раздраженно сокращал затребованные объемы поставок сельхозинвентаря, продовольствия, медикаментов, вновь и вновь возвращаясь к жалобам на правительство, которое не в состоянии понять, что ему негде размещать «политиков». Согласование близилось к концу, когда собеседник Фонвичая тихо сказал: «Мне кажется, гражданин генеральный директор, вашу проблему можно решить у меня. На острове Тарутао.
Там, где хватило места для двух тысяч, хватит и еще для семидесяти, только надо будет построить им отдельную зону. Строители есть». Фонвичай отложил перо в сторону, встал, подошел к висевшей на стене карте и начал молча ее изучать. Вернувшись к столу, он смял и бросил в корзину только что подписанные бумаги. «Вы получите все, что просили, гражданин комендант, – сказал он. – И даже много больше, с поправкой на особое снабжение дополнительного контингента из семидесяти политических заключенных».
Места изолированнее Тарутао не смог бы подыскать и самый ревностный отшельник: этот восточный форпост Андаманского архипелага в Индийском океане и сегодня зовется в проспектах местных авиакомпаний не иначе как «уединенным раем». Такая характеристика полностью подтверждается сетевыми форумами, где побывавшие на Тарутао туристы со всего света (в том числе и наши соотечественники) делятся своими счастливыми впечатлениями от дней, проведенных среди тропических чудес, затерянных в океане. О том, что когда-то здесь располагалась колония для самых жестоких уголовных преступников, туристические проспекты почти не упоминают. Да в это и трудно поверить: какое правительство, будь оно хоть трижды буддистское, отправит своих изгоев в самый настоящий рай?
Но центром туристского притяжения Тарутао смог стать лишь после того, как в 1974 году указом короля Рамы IХ Андаманский архипелаг был объявлен национальным заповедником. Понадобилось почти десятилетие, чтобы превратить в рай остров, который до этого вполне заслуженно считался адом. Конечно, волшебные пейзажи, десятки уединенных бухточек с золотистыми песчаными пляжами, низвергающиеся с горных склонов водопады, сияние лесных озер в ожерелье алых бугенвилий существовали на Тарутао испокон веку.
Но все это изобилие красоты перечеркивалось изобилием ужаса: остров буквально кишел крокодилами и малярийными москитами. Тайские, индийские и малайские рыбаки уже много веков подряд избегали Тарутао как зачумленного, заплатив за неоднократные попытки основать там поселения десятками жизней. От материка Тарутао отделяло 15 миль, что и предопределило создание там в июне 1937 года каторжной колонии для отъявленных рецидивистов, у которых насчитывалось по нескольку побегов из прежних мест отбытия наказания.
Комендант Онтонг сделал своим главным блюстителем порядка малярию: таблетки хинина регулярно выдавались только тем заключенным, кто не имел нарушений трудовой дисциплины. Островные заявки на медикаменты нередко превышали суммарный объем заявок из прочих тайских пенитенциарных учреждений, и все же общие расходы Тарутао были весьма скромными по причине экономии на штатах охраны. Бежать с острова было невозможно: Сатун, ближайший к нему порт на территории Таиланда, находился в часе плавания, а обе самоходные баржи лагерной администрации охранялись не хуже транспортов знаменитого «Дальфлота».
Одна из этих самоходок и доставила в феврале 1939 года первый в истории острова контингент политзаключенных. Теоретически его можно было бы назвать первым и последним, но после 1941 года отдельная «политзона» в бухте Тало Уданг на южной оконечности Тарутао время от времени спонтанно пополнялась за счет британских, американских и голландских военнослужащих, предпочитавших японскому плену интернирование в Таиланде. Их было немного, чуть более двух десятков, и специального лагеря для такой ничтожной горстки иностранцев правительство создавать не стало (формально оно не участвовало в военных действиях, соблюдая по отношению к Японии благожелательный нейтралитет, выразившийся в разрешении на транзит японских войск через территорию страны). Всех интернированных направляли в единственный «привилегированный пункт заключения» – на Тарутао.
Сомневаться в привилегированном статусе его политзоны не приходилось: каторжная ферма в бухте Тало Уданг, вплоть до введения цензуры ко второму году войны в Азии, продолжала оставаться центром внимания прессы. Внимание журналистов обеспечивал высокий общественный авторитет «фермеров», среди которых было несколько родственников короля, бывших министров и ученых с мировой известностью.
На страницах газет тщательно перечислялись отправляемые на остров партии продовольствия, домашней птицы, удобрений, инвентаря, плантационных саженцев, одежды, противомоскитных сеток, хинина и прочих медикаментов. Не были пассивны в обеспечении собственного здоровья и сами заключенные. Используя знания и опыт недавнего министра сельского хозяйства Кейсонга Тепайсита и принадлежавших к королевской семье ботаников из университета в Чьянг Раи, они, при активном содействии администрации, за первый же год сумели добиться полного самообеспечения продовольствием своей маленькой колонии (за исключением риса), а в 1941 году приступили к снабжению продуктами фермы и основного лагеря на севере острова.
Такая помощь оказалась более чем своевременной. Уже к середине 1942 года положение с поставками продовольствия и медикаментов начало резко ухудшаться. Захват японцами Сингапура, Малайи и Бирмы полностью изменил всю экономическую ситуацию в регионе. Судоходство в некогда оживленном проливе, отделявшем Тарутао от материка, теперь поддерживалось лишь небольшими китайскими шхунами – крупные суда предпочитали дальние океанские маршруты, которые охранялись усиленным эскортом. Многие малайские деревни, ранее в изобилии снабжавшие рисом весь азиатский Юго-Восток, были стерты с лица земли в ходе военных действий, площадь сгоревших лесов и уничтоженных плантаций не поддавалась учету, а рыболовецкий флот региона из-за потерь и конфискаций сократился до четверти от своего прежнего состава. Командующий японской армией генерал Ямасита ввел драконовский режим безоговорочной реквизиции всего, в чем испытывали необходимость его подчиненные.
В «транзитном» Таиланде этот режим был символически смягченным, но комендант Онтонг не уставал благодарить судьбу, пославшую на его остров семьдесят предприимчивых, эрудированных и трудолюбивых «кормильцев». Ибо привычные ежемесячные рейсы самоходок с грузами для Тарутао сменились сначала ежеквартальными, а затем и полугодовыми. Какое-то время призрак голода удавалось отодвигать с помощью мер, принимаемых на совместном «административно-политическом» совете, где неизменно председательствовал экс-министр Тейпасит, а сам Онтонг согласился на скромную роль секретаря. Совместная работа граждан охранников и граждан заключенных оказалась весьма плодотворной.
Экс-адмирал королевского флота Сомкьярт возглавил бригаду рыбаков, которой комендант доверил снятую с одной из самоходок спасательную шлюпку. Бригада ботаников, где трудилось два профессора, один доцент и трое голландских агрономов в военной форме, получила богатейший урожай тыквы. Из интернированных англичан и американцев была создана охотничья команда, которой под честное слово офицеров были выданы два карабина с амуницией. Но если с продовольствием на острове все оставалось более или менее в порядке, то справиться с отсутствием медикаментов не могли никакие бригады.
На мольбы коменданта острова о срочном выделении хотя бы трети причитавшегося лагерю хинина директор Фонвичай рассудительно ответил: «Если война прекратится, гарантирую вам скорое возвращение к прежнему объему поставок. Если она продлится еще хотя бы год, отправка медикаментов будет прекращена полностью, ввиду окончательного опустошения наших складов. Думаю, что последний вариант более реален. Но в любом случае ваша задача остается прежней – не допустить ни бунта, ни эпидемии. Оружия у вас достаточно, а в вопросах снабжения предоставляю вам полную свободу действий».
Когда ответ Фонвичая был доведен комендантом до сведения «административно-политического совета», там воцарилось молчание. Его нарушил голос адмирала Сомкьярта: «Медикаменты проплывают мимо нас почти каждый день. На китайских и малайских джонках. Их запасы хинина невелики, но они есть. Иначе суда просто не выпустили бы в море. Мы можем обратиться к ним с просьбой войти в наше отчаянное положение. Поделиться, либо обменять на что-то». «Например, на крокодиловую кожу, которая гниет у нас без всякой пользы», – тут же подхватил идею адмирала американский глава бригады охотников Тим О’Брайен. «А если они не согласятся?» – усомнился министр Тейпасит. Вновь наступила тишина. На сей раз ее прервал комендант. «Если они не согласятся, – твердо сказал он, – то я воспользуюсь правом на полную свободу действий, которое предоставил мне гражданин генеральный директор».
Первый выход в море прошел благополучно: сраженный красноречием бывшего спикера Национальной ассамблеи, призывавшего проявить милосердие к бедствующим заключенным, капитан китайской шхуны передал на самоходку почти половину содержимого судовой аптеки, наотрез отказавшись от платы. Еще более успешным оказался контакт с малайским буксиром, тащившим в Пенанг две забитые лесом баржи. Правда, ораторский дар спикера на малайцев особого впечатления не произвел, но за дюжину обработанных крокодиловых шкур они согласились доставить на обратном пути запас медикаментов, вполне достаточный, чтобы предупредить угрозу эпидемии. Чуть позже с помощью такого же обмена (на сей раз с рыбаками из Ланкави) удалось немного пополнить тающие островные запасы риса – главной пищи любого жителя Юго-Восточной Азии.
По приказу коменданта на прибрежной скале была выстроена четырнадцатиметровая вышка с двумя постоянно следившими за горизонтом наблюдателями, по сигналу которых лагерная самоходка тут же выходила в море на «снабженческую операцию». Итогом одной из таких операций стало потопление китайского парусника, чей шкипер отказался принять на борт спикера с комендантом, для острастки положив на борт ствол охотничьего ружья. Онтонг, и секунды не колеблясь, пустил в дело свой пистолет. «Это была автоматическая реакция, – пояснил он потом ошеломленному Сомкьярту. – Не привык я, чтобы на меня направляли оружие». Шкипер был убит на месте. Та же участь постигла пятерых членов экипажа, пытавшихся отразить десант с помощью багров и топоров. Опустевший парусник сожгли, а его груз переправили в трюмы самоходки, обменяв позднее на драгоценный рис через племянника коменданта, который занимал весьма удобный для такого рода сделок пост начальника таможенного склада в Сатуне.
Единодушный отказ заключенных принимать дальнейшее участие в «снабженческих операциях» комендант воспринял философски. «Говорите, что не хотите превращаться из граждан заключенных в граждан пиратов? Очень хорошо. Вы имеете право выбора. Но у меня его нет. Согласно распоряжению гражданина генерального директора, у меня есть лишь полная свобода действий по предотвращению бунта и эпидемии. Я обязан выполнять это распоряжение любыми имеющимися в моем распоряжении средствами. И я буду его выполнять».
Повинуясь распоряжению гражданина гендиректора, граждане пираты быстро вошли во вкус и принялись заполнять таможенный склад «трофейными» запчастями к тракторам, одеждой, содой, радиоприемниками и велосипедами настолько успешно, что потребовалось совсем немного времени, чтобы за водами вокруг Тарутао закрепилась слава «Андаманского треугольника», где бесследно исчезало одно судно за другим. Экипажи стали вооружаться, а судовладельцы – искать обходные пути. Соответственно, и граждане пираты, уже не дожидаясь появления добычи у своих берегов, начали выходить на дальний поиск в открытое море. Абордажные партии самоходок были усилены за счет добровольцев из числа уголовников. Их оказалось столько, что Онтонг смог бы укомплектовать ими хоть целый линкор, числись такая единица в лагерном флоте. Таким образом, на Тарутао история советских репрессий вновь сблизилась с тайской: и тут, и там преступный мир зарекомендовал себя самым социально близким к власти элементом!
Пиратский бизнес лагерной администрации приносил такой доход, что метастазы укоренившейся на маленьком таможенном складе коррупции вскоре распространились на столичную торговлю, а оттуда проникли в систему снабжения транзитных японских войск. Безнаказанный товарооборот краденого продолжался вплоть до января 1945 года, когда небрежность уверившихся в собственной неуловимости чиновников стала причиной краха всей отлаженной цепочки перепродаж. Обнаружив на купленных ими в Бангкоке тюках с плащ-палатками нестертые клейма, которые значились в перечне армейских грузов, бесследно пропавших при транспортировке из Манилы, японские интенданты тут же обратились за помощью к Тигру Малайи – сражавшемуся на Филиппинах генералу Ямасита. У того было по горло хлопот с наступавшими американцами, но находка интендантов настолько разъярила Тигра, что он уделил несколько минут составлению краткой радиограммы своим «благожелательным нейтралам».
Через два дня после отправки радиограммы племянник коменданта застрелился, увидев направляющийся к складу полицейский грузовик, а на следующее утро обе пиратские самоходки спешно покинули Тарутао в неизвестном направлении, чтобы никогда уже не возвращаться к родному причалу. Судьба первой неизвестна. Вторую осенью 1946 года потопил британский тральщик, патрулировавший прибрежные воды Андаманского архипелага.
История с «гражданами пиратами» вызвала в стране новую бурю возмущения. Долгой она не была: всех политических заключенных без проволочек освободили, приурочив этот правительственный акт к широкой амнистии по случаю окончания Второй мировой войны. Сонгкран посчитал несвоевременным провоцировать публичные протесты на фоне восстановления дипломатических отношений с демократическими державами-победительницами.
Окончательно освободиться от диктатуры Сонгкрана (провозгласившего себя пожизненным маршалом) вольнолюбивым гражданам Таиланда, после множества восстаний и повсеместного вооруженного противодействия армейской хунте, удалось лишь в 1957 году. Диктатор бежал через Камбоджу в Японию, для которой им было так много сделано в военные годы. Там он спустя семь лет и умер.
Его соратник по перевороту Баномьенг, в полном соответствии со своими марксистскими убеждениями, на протяжении всей войны противился вовлечению Таиланда в орбиту империи Восходящего солнца. Это не слишком способствовало укреплению его авторитета у маршала, но зато вернуло ему расположение рядовых тайцев. Вернуло настолько, что он – закоренелый антимонархист! – сумел добиться от Национальной ассамблеи звания единственного регента короля Рамы VIII, а в апреле 1946 года был избран вопреки яростному противодействию маршала Сонгкрана премьер-министром. Ровно через два месяца после этого вернувшийся из Европы на родину юный король был найден застреленным в собственной спальне.
Напрасно премьер по радио и в газетах твердил, что имело место всего лишь романтическое самоубийство на почве неразделенной любви: сограждане вновь отказали ему в доверии – на сей раз навсегда. Вновь вышедший на улицы народ потребовал от Верховного суда страны открытого и беспристрастного расследования истинных обстоятельств смерти своего короля, и, когда следствие начало получать все больше улик, бросавших тень подозрения на Баномьенга, премьер-министр предпочел, не дожидаясь начала процесса, сбежать в Китай. Оттуда он перебрался в Париж, где сумел благополучно дожить до девятого десятка, скончавшись в 1983 году. Он охотно раздавал интервью всем желающим и, вспоминая прошлое, не жалел ни о чем. Кроме одного. «Теперь я понимаю, что начал не с того, – повторял он. – Мне надо было начинать с судов. Суды – вот что в реформах главное».
Ростислав Горчаков, Индекс
Tweet